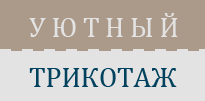Гоголь Начало. Рецензия: antona1976 — LiveJournal
Любите ли вы Тарантино так, как люблю его я? Если да, то разбивайте копилочку и 31 августа бегом в кино! Именно в этот день во всех кинотеатрах страны состоится премьера отечественного блокбастера «Гоголь.Начало». Мне повезло, вчера я побывал на закрытом предпоказе и сейчас расскажу вам всю правду.
Как только я узнал фамилию продюсера фильма — Александр Цекало , то сразу замер в предвкушении . Не зря его прозвали «русским Тарантино», кино явно будет с огоньком, подумал я и не ошибся. Я вообще очень редко ошибаюсь.
«Гоголь» уже получил международное признание. Легендарный режиссёр Джон Ву («Миссия невыполнима 2», «Без лица») назвал «Гоголя» лучшим иностранным проектом на международном фестивале нестандартного кино и фильмов новых форматов The Indie Gathering International Film Festival в США.
Ключевое слово тут — «нестандартное». Те, кто надеется в этом фильме увидеть «классику» Гоголя, скорее всего будет немного разочарован. Это не про классику, у нас ее и так достаточно. Гоголь от Александра Цекало — это про Постмодерн, про некую параллельную реальность, вернее сразу несколько реальностей. Как верно заметил режиссер фильма Евгений Баранов:
«Ни в костюмах, ни в интерьерах мы осознанно не придерживались исторической достоверности. Действие разворачивается и в XVII веке в средневековой крепости, и в подводном мире, и в аду – нас кидало из локации в локацию».
Получилось действительно классическое постмодерновое кино с отсылками куда только можно и куда нельзя — Тарантино, Властелин колец, Зловещие Мертвецы и как вишенка на торте — Покровские Ворота!
Я напоминаю, что одну из главных ролей в фильме играет Олег Меньшиков, который снимался в Покровских Воротах в 1982 году. И тут такая сцена — Меньшиков подходит к Гоголю и с интонацией аля 1982 год спрашивает: «А не хлопнуть ли нам по рюмашке»? И тут я неожиданно для себя заплодировал. В зале на меня начали коситься — ну и пусть.
Кстати об актерах. Исполнитель главной роли Алексей Петров отыгрывает Гоголя на пятерку, обойдя даже таких боссов от актерского мастерства как Меньшиков и Стычкин. Очень много удачных ролей второго плана — молодцы!
Что порадовало особенно — это то, что есть две версии фильма — 18+ и 16+. Взрослые могут пойти на 18+, где будет море крови, расчлененка, жесткий секс и садизм, а подростки смогут пойти на лайт версию с морем крови и расчлененкой без всяких там других ужасов.
Так что, повторюсь — любите Тарантино — бегом в кинотеатры на Гоголь.Начало!
А если честно, никакая рецензия не сможет передать той неповторимой атмосферы, в которую зрителя погружает этот фильм. Но вот трейлер фильма вас продвинет в этом — я уверен. Не поленитесь — и за пять минут вы узнаете все об этом фильме. Трейлер полностью аутентичен — вот именно это вас и ждет в кинозале.
До новых встреч!
«„28 панфиловцам“ и „Землетрясению“ не нужен критик» — Статьи на КиноПоиске
Кинокритик Антон Долин рассказал КиноПоиску, почему в России народное кино похоже на кашу из топора и к чему это может привести.
В октябре на российские экраны вышли сразу два фильма, которые вызвали бурную положительную реакцию у зрителей и сдержанную, а порой недоуменную у критиков. Это военная драма «28 панфиловцев», чей релиз сопровождался дискуссиями в обществе и скандалами на уровне государственных учреждений, и «Землетрясение», повествующее о трагедии 1988 года в Армении, когда мощное землетрясение унесло жизни десятков тысяч людей.
На своей странице в сети Facebook кинокритик Антон Долин написал о том, что посмотрел оба фильма «вне обязательств рецензента», и возмутился отсутствием возможности критиковать качество подобных картин. «Упоительная новая тактика русского кино: выбирай тему, жанр и способ производства (сделано русским народом при участии Министерства культуры РФ) так, что любая критика будет объявлена предвзятой», — написал Долин.
Кадр из фильма «Землетрясение»
Каша из топора
Критик — это всего лишь профессиональный зритель. В кино он точно так же плачет, когда грустно, смеется, когда смешно, и спит, когда скучно. Единственное отличие критика от простого зрителя — он смотрит очень много кино, и от этого чувствительнее к штампам. Когда он видит, что что-то откуда-то украдено, а какой-то прием повторен в 70-й раз, он это опознает. В моих глазах, хотя не все со мной согласятся, выстраивать кино на клише и штампах — это довольно серьезный грех, если мы исходим из того, что кино — это все же отчасти творчество, а не только индустрия.
Меня расстраивает, что создатели некоторых картин, которые недостаточно талантливы или недостаточно старательны, для того чтобы сказать своим фильмом что-то новое (или сказать старое, но новым способом), выезжают за счет рефлексов зрителя. Рефлексов, которые похожи на рефлексы собаки Павлова. Разговор о землетрясении для людей, которые пережили его или просто слышали о нем, сразу вызывает давление на слезные железы. Допустим, эксплуатация таких тем, как холокост, уже начинает раздражать отдельных зрителей (слишком много этого в кино), но другие темы не так широко исследованы. Игровых фильмов о землетрясении, которое было действительно беспрецедентным, не существует. Патриотическая нота, ностальгическая нота, сентиментальная нота — все это складывается в предсказуемую реакцию зрителя.
Я бы назвал это эффектом каши из топора. Солдат из гениальной русской сказки завлек прижимистую хозяйку топором, из которого вроде как сварит кашу, а на самом деле использовал продукты, которые доверчивая, но любопытная женщина бросала в котелок. Съемочные группы фильмов «Землетрясение» и «28 панфиловцев» выступают в роли вот такого топора — совершенно бесполезного, хотя тяжеловесного и на вид даже действенного. Они не сообщают новой информации, не дают неожиданных эмоций — вообще ленятся. Но некоторые темы работают сами по себе. Особенно если организовать грамотную информационную поддержку и не забыть сообщить публике о непатриотичных врагах такого кинематографа, которым надо дать отпор.
Те, кто после объявления о создании фильма о 28 панфиловцах кричал, что такого подвига не существовало (как будто это имеет какое-то значение для художественного фильма), как и те, кто кричал, что отрицающие этот мифологический подвиг — «конченые мрази», идеально подогрели публику, которой стало любопытно посмотреть фильм. Результат: немалая часть аудитории «28 панфиловцев» и «Землетрясения» выдает запрограммированную реакцию, которая никак не связана с достоинствами или недостатками фильма.
Почему это вредно?
Это опасный прецедент по простой причине. Кино — это искусство. Искусство должно бороться со штампами и клише, а не пропагандировать их, подменяя догмой и готовым рецептом тот поиск, в котором суть культурной деятельности и заключается. Никакого поиска нового, конечно, в «28 панфиловцах» нет. Кто-то очень точно сравнил этот фильм с исторической реконструкцией. Но, позвольте, картина показывается в кинотеатрах, а со зрителей берут деньги за вход. Значит, это все-таки кино. Говорите, «кино-памятник»? Что ж, памятники обычно стоят на площади — бесплатно и для всех. Снимите кино и бесплатно показывайте на площади. Государство, думаю, поддержало бы.
Когда люди в поле, где когда-то состоялось сражение, собираются, одеваются в мундиры или доспехи и чувствуют себя одержимыми духами тех воинов, которые когда-то на этом самом месте не на жизнь, а на смерть схватились друг с другом, — это историческая реконструкция. Но представьте, что приходите вы в Большой театр, а там вместо «Князя Игоря» реконструкция битвы князя Игоря с половцами. И никто при этом не умеет петь, не играет на инструментах — просто дерутся.
Всему свое место. Почему «28 панфиловцев» со своими крайне скромными художественными достижениями существуют на одном поле с настоящим кино, будь оно американское, российское, французское или какое угодно еще, мне не очень понятно. Его делали явно люди увлеченные, патриотичные, искренние. Намерения могут быть благими, но я не понимаю, какое отношение это имеет к кино, в котором должны быть идея, метафора, интересный сюжет, незабываемые персонажи, самобытный художественный язык?
Из ничего и выйдет ничего
Отсутствие серьезного разбора художественных составляющих «Землетрясения» или «28 панфиловцев» в прессе красноречивее всего говорит о качестве этих фильмов. Если то, из чего состоит собственно искусство кино — операторская работа, актерская игра, сценарий, характеры, — не обсуждается, а люди начинают обходиться общими словами о подвиге народа (или — вспомним «Землетрясение» — о страданиях другого народа), значит, говорить просто не о чем.
На месте авторов фильма я бы не радовался такого рода комплиментам. Даже самый кондовый патриот осознает, что персонажи «28 панфиловцев», имена и лица которых, я думаю, мало кто запомнил, не могут сравниться с героями фильмов «Летят журавли», «Судьба человека», «Иваново детство», «Восхождение». Можно назвать любые хорошие советские фильмы о войне, на которые «28 панфиловцев» как бы ориентируются. В каждом из них мы увидим совсем мало сцен сражений. Речь идет о психологических ситуациях, в которых оказывается человек на войне. Мы помним актеров, их реплики, имена героев. И везде идет речь об индивидуальных судьбах, а не об обобщенном подвиге народа.
Впрочем, этим фильмам не нужен умный и злой критик, который их разгромит, показав через собственную эрудицию их низкие художественные качества. Хвалебных рецензий, состоящих из общих слов, и скромных кассовых сборов достаточно, чтобы показать истинное значение этих картин. Как говорил король Лир, «из ничего и выйдет ничего».
Индустриальный фильтр
Опыт таких народных фильмов, конечно, трансформирует наш кинематограф, и это тревожный знак. Но не катастрофа. Ведь чтобы показывать выдающиеся результаты, надо быть экстраординарным и коммерсантом, и художником. Бекмамбетов или Бондарчук, например, на это способны. Никто не будет спорить, что это личности. У каждого свой стиль, свой подход, каждый рискует чем-то, создавая свою художественную вселенную. Без этого не будет и серьезной коммерции! В Голливуде и во всем мире то же самое. Мы можем ненавидеть Спилберга, Майкла Бэя или Люка Бессона за коммерциализацию искусства, но в каждом случае речь идет о яркой личности.
Коллективный подвиг безвестных кинематографистов и будущих зрителей, скинувшихся на фильм, не создает индивидуальности, на которой строится индустрия. Это фильм, который может не провалиться; самое серьезное достижение — выйти в ноль. Но индустрия держится на проектах, которые зарабатывают, совершают прорывы. Это разговор, уже не связанный с искусством, качеством, идеологией. Публика хочет видеть в кино то, чего раньше не видела.
Кадр из ток-шоу «Вечерний Ургант»Лоцман в безбрежном мире кино
Мне не кажется, что критики сегодня никому не нужны. Мой персональный опыт — конечно, он не универсален — свидетельствует об обратном. Уверен, людям необходимы кинокритики, которые будут им внятно, доходчиво, простыми словами помогать ориентироваться в безбрежном мире кинематографа. Кино по-прежнему самое народное из искусств, все его смотрят, и людям необходимы лоцманы. Я в этой роли выступаю. Возможно, многие мои коллеги хотят разговора с аудиторией на более высоком интеллектуальном уровне (я и сам был бы не прочь) и расстраиваются, что аудитория этот уровень не желает воспринимать. Печально, но со временем и это пройдет.
Отчасти дело в том, что в стране давно и планомерно ведется работа по уничтожению свободных независимых средств массовой информации. Понятно, что, когда средство информации становится средством пропаганды, первое, что отваливается за ненадобностью, — отдел культуры и вообще критики — люди, которые учат анализировать действительность. Сейчас такого рода деятельность не приветствуется. Но потребность в ней колоссальная. Я это вижу не только по аудитории «Вечернего Урганта», но по реакции людей в провинции, где я бываю довольно часто. Так что все разговоры про невостребованность критики преждевр
Рецензия на фильм «Гоголь. Начало» (2017): s3tr0n — LiveJournal

В кинотеатрах стартовал второй фильм о молодом припадочном писаре, который чувствует связь с параллельным миром и активно этим пользуется для расследования таинственных преступлений в окрестности села Диканька. Первую часть, которая вышла в сентябре 2017 года я упорно игнорировал, но тут любопытство взяло верх, поэтому я решил ознакомится с этим фильмом. Мало ли — может есть объяснение тем 400 миллионам сборов, которыми хвастаются создатели картины.
Главное, что следует знать о «Гоголе. Начало» — это две серии сериала, который объединили под общим заголовком и пустили в кинотеатрах. Именно поэтому про цельную структуру и стройное повествование можно забыть. Тут строгая последовательность первой и второй серии — каждая со своей сюжетной линией, но сквозной тематикой. Обрывается повествование крайне резко и оставляет приторное ощущение обмана.
Село Диканька встревожено жуткими событиями. Уже который раз в селе таинственным образом погибает очередная молодая девушка. Для расследования из города приезжает модный и смекалистый следователь Яков Петрович Гуро, который захватил с собой писаря Николая Васильевича Гоголя. Молодой и бледный писарь регулярно впадает в припадки, во время которых ему открывается истина загадочных преступлений. Прибыв на место, они выясняют, что жители шепчутся о таинственном всаднике с рогами, а припадки Николая Васильевича учащаются. Однако именно это помогает следователю Гуро с писарем Гоголем напасть на след.
Вторая серия частично продолжает тематику таинственных убийств, но больше концентрируется на отдельной истории. Баба Хавронья погибает в своей же хате во время лобзания с любовником. Любовник остаётся жив, но несёт какой-то бред про свиные рыла и летающую красную свитку. Вновь на помощь селянам Диканьки приходит писарь Гоголь, который на этот раз берет себе в помощники кузнеца Вакулу и доктора Бомгарта.
Авторы основательно переработали произведения самого Гоголя и мифы славянской культуры, чтобы на их основе создать материал для нескольких серий грядущего сериала. То тут, то там всплывают отсылки различным произведениям Николая Васильевича, либо сами герои появляются в необычном амплуа. К сожалению, сериальная структура не могла не сказаться и сыграла злую шутку — фильм не выглядит целостным произведением, да ещё и обрывается на полуслове. Сценарий хоть и неплохо обыгрывает фольклор, но спотыкается о многочисленные штампы. Особенно это заметно в диалогах, которые тут предсказуемые донельзя — развитие сюжета шито белыми нитками, а фразы героев я угадывал в двух случаях из трёх. После такого воспринимать серьёзно метания главных героев и регулярные рояли в кустах просто невозможно. Ко всему прочему режут слух современные термины, что на корню разбивает любую попытку построить атмосферу.
Режиссёр Егор Баранов («Саранча», «Фарца») пытается экспериментировать с подачей материала, однако порой слишком увлекается и зацикливается. Первые минуты фильма одновременно пытаются завлечь голой задницей похищенной селянки, примитивными рогами, вылезающими из спины мистического всадника (и остающегося у него весь фильм) и резким монтажом-склейкой для придания динамики происходящему. Серо-синий фильтр поначалу кажется неплохим подспорьем в визуальной составляющей и даже работает на атмосферу — мертвенно-бледный припадочный юноша Гоголь даже вызывает сочувствие, а мрачные пейзажи создают умеренно-мрачное настроение. Но уже к середине фильма (читай, ко второй серии) от однообразной серо-синей палитры начинаешь уставать. Разбавляют визуальное однообразие припадки Гоголя, которые то впадают в буйство кроваво-огненных переливов, то перегибают с использованием экшен-камеры с эффектом рыбьего глаза. Ну а для заманивания массового зрителя авторы поднимают рейтинг проекта обнажёнкой, но вставлена она настолько криво и убого, что смотреть на неё совершенно не интересно. Нельзя без слёз смотреть и на здешние спецэффекты — разве что эффекты дыма смотрятся неплохо, но в остальном бюджетность и ориентированность на малые экраны телевизоров видна невооруженным взглядом.
Александр Петров сыграл главного героя Гоголя и большую часть времени он либо страдальческим взглядом осматривает окрестности, либо до невозможности округляет глаза во время припадков. Никакого образа бледного юноши со взором горящим, который хочет понять и простить свой «дар» тут нет и в помине. Как и убедительной актёрской игры.
Единственный, кто хоть немного старается, так это Олег Меньшиков — его следователь Яков Петрович Гуро получился по крайней мере живым и харизматичным, в отличии от всего остального актёрского состава, который либо совершенно не вписывается в образ, либо вызывает натуральное отторжение. Вымораживает Юлия Франц в образе дочери мельника Оксаны со своими ботексными губами, которые не вписываются в атмосферу начала XIX века от слова вообще. Раздражает Евгений Стычкин в своих позёрских нарядах и излишним переигрыванием. Павел Деревянко в образе Пушкина ужасен и откровенно отвратителен, хоть его участие сведено к минимуму. 
«Гоголь. Начало» знаменует начало печальной тенденции для российского кино и телевидения, который поддерживается отечественным зрителем. Радостно занося деньги в кассу этих сериальщиков, зритель, сам того не понимая, подстёгивает к развитию отвратительного тренда. То, что должно показываться на телевидении или, на крайняк, в стриминговых сервисах, выплёвывается на киноэкран и позиционируется как полноценное произведение. У кино и телесериалов могут быть одинаковые методы подачи, актёрская выкладка на площадке и уровень проработки, но способы доставки материала конечному зрителю должны отличаться. И именно на этом поприще фильм выглядит плевком в российскую аудиторию.
Весь это балаган с ежегодным выпуском двух новых эпизодов похож на недостроенный парк развлечений — строители построили три метра игрушечной железной дороги и уже пустили по нему поезд. Ты только уселся поудобнее и начинаешь ощущать ветер в лицо, как поездка заканчивается и тебя гонят с площадки. А дальше в течении года строят ещё три метра дороги, чтобы посетить которые предстоит ещё раз заплатить! Как народ на такое ведётся — не понимаю!
В период, когда зарубежные каналы сражаются за аудиторию и пытаются предложить максимум интересного и насыщенного материала, российский канал ТВ-3 собирает многомиллионные сборы, давая российскому зрителю две серии в год. Самое обидное, что народ ведётся и хавает без остатка, да ещё и нахваливает. Это не стремительный подъём с колен, а очередное пробивание дна, как ни печально это признавать. 
«Гоголь. Начало» это не фильм в привычном понимании этого слова. Это буквально две пилотные серии начинающегося сериала, который решили крутить в кинотеатрах. Оно не выдерживает никакой критики как полнометражное кино — рваное повествование, смехотворные спецэффекты и неубедительная актёрская игра. Зато как начало телевизионного сериала проект способен постоять за себя — авторы нагнетают интригу и приберегают ключевые тайны на потом, а местами даже убедительно нагнетают атмосферу сельской мистики, но отпугивают примитивными диалогами и спорным подбором актёров. Жадность до добра не доводит — выпустили бы сразу весь сериал — цены бы не было! А так получился обрубок полена, из которого папа Карло когда-нибудь выстругает своего Буратино.
Что ещё почитать:
К списку всех рецензий
«Нефть» Пола Томаса Андерсона. Рецензия Антона Долина
Разбирать красивые построения «Нефти» — одно удовольствие, из них можно составить книжку более внушительную, чем «Нефть» Эптона Синклера. Фильм, однако, кажется таким цельным куском, что не хочется разрушать его структурным анализом. Все ругатели и апологеты Пола Томаса Андерсона сходятся в одном: он — выдающийся формалист, достойный сравнения со Стэнли Кубриком и Орсоном Уэллсом, вернувший Америке давно забытый эпический дух (чаще всего «Нефть» по элементарному тематическому сходству сопоставляют с «Сокровищем Сьерра-Мадре» и «Гигантом»). Меж тем формализм — лучший способ для обмана зрительских рецепторов; характерный запах нефти в этой картине не более чем маскировка.
Этот фильм — не то, чем кажется. Прежде всего не экранизация. Синклер, прозванный у нас «американским Горьким», сам не считал «Нефть» большой удачей, недаром роман не переиздавали уже давно. Стоит же найти старое издание, и потеряешь дар речи: представьте человека, восхитившегося «Войной и миром» Бондарчука, а потом прочитавшего первоисточник и не обнаружившего там ни Болконских, ни Безуховых, ни Ростовых, ни Кутузова с Наполеоном — только Платона Каратаева. «Нефть» Синклера начинается и заканчивается совсем не так, как у Андерсона. Там нет ни одного убийства, у героя (которого зовут иначе — Арнольд Росс) нет брата, зато есть бывшая жена, и сын там, в отличие от фильма, — его собственный. Короче, ничего общего с картиной: скучный старомодный роман о капиталистах и профсоюзах. «Зачем вам нужна была эта книга для стопроцентно оригинального сценария?» — удалось спросить у режиссера в Берлине. «И правда, зачем?..» — задумчиво ответил тот.
Андерсона хвалят за тщательную режиссуру, не замечая в нем блистательного драматурга: все потому, что в «Нефти» он избегает броских внешних эффектов, вроде неординарного полового органа (см. «Ночи в стиле буги») или дождя из лягушек (см. «Магнолию»). Упомянув Кубрика, как не вспомнить о единственной встрече Андерсона с кумиром, обеспеченной связующим звеном — Томом Крузом. Проникнув на съемочную площадку «Широко закрытых глаз», вундеркинд попытался побеседовать с мэтром, но тот не желал видеть очередного «подающего надежды». Кубрик сменил гнев на милость лишь после того, как узнал о другой ипостаси Андерсона: «Так вы не только режиссер, а еще и сценарист!» — и уделил коллеге несколько минут.
Об этой встрече сценарист-режиссер рассказывал другому фанатичному поклоннику Кубрика, также нередко обвиняемому в пустопорожнем формализме, — своему приятелю Ларсу фон Триеру. Вот с этим любителем американских мифов, ищущим в них материал для моральных притч, Андерсона сравнить логичнее — теперь, после «Нефти», которая притворяется индустриальным эпосом, а оказывается едва ли не теологическим трактатом. Дотошный Андерсон изучал подробности нефтяного бизнеса в Калифорнии начала ХХ века отнюдь не из чистого фетишизма. Ему был необходим крепкий каркас, чтобы прыгнуть выше нефтяной вышки или, если угодно, копнуть глубже нефтяной скважины. Как следует из названия, фильм — о поисках того, что лежит глубоко и до поры до времени невидимо. О тайных тектонических сдвигах, о подземных пластах, об ископаемых, полезных, бесполезных и даже вредных, таящихся в глубинах человеческой натуры.
А эта натура в «Нефти» — главное. Так считают, кажется, все судейские кинокомиссии мира: BAFTA, «Золотой глобус» и «Оскар» столь истово награждали за роль в «Нефти» Дэниела Дей-Льюиса, что могло сложиться ощущение, будто фильм в целом и Дэниел Плейнвью в частности — результат творческих усилий артиста, а не режиссера. Лишь Берлинале (международные фестивали чуть более внимательны к новаторскому кино, чем статусные премии) рассудил по-иному, наградив «Серебряными медведями» Андерсона и композитора фильма, по совместительству гитариста группы Radiohead Джонни Гринвуда. Жюри, похоже, поняло, что титаническая фигура Плейнвью — все-таки плод коллективной работы, каким бы гением актерского перевоплощения ни слыл Дей-Льюис, под которого Андерсон специально писал сценарий «Нефти».
Антон Долин и Ситора Алиева о лучших фильмах 2016 года — Статьи на КиноПоиске
На ВДНХ прошел круглый стол, посвященный кинофестивалям. На мероприятии выступили критик Антон Долин и программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева.
Круглый стол, соорганизатором которого выступил КиноПоиск, проводился в рамках образовательной программы «Луч». Ниже можно посмотреть видеоотчет с мероприятия, а также почитать избранные цитаты спикеров.
Антон Долин о лучших зарубежных фестивальных фильмах 2016 года
Фестивальный сезон по-настоящему открывается Берлинским смотром. Поэтому логично начать с фильма, который получил несколько призов на Берлинале, в том числе «Золотого медведя». Это итальянская лента «Море в огне». У нее очень интересная судьба. Это малобюджетная картина, действие которой разворачивается на крохотном островке Лампедуза, где практически ежедневно вылавливают огромное количество нелегалов. Это фильм о том, как живет старая Европа с новыми непрошеными обитателями, и понятно, что кризис мигрантов, который особенно всех волнует в последние два года, на Лампедузе длится уже очень давно. Картина, мне кажется, откровенно и безоценочно показывает эту ситуацию.
Дальше наступил Каннский фестиваль, который был, наверное, одним из самых ярких за долгие годы и при этом одним из самых провальных по результатам. Вот в этом году на фестивале шедевров было очень много, и почти все они остались с пустыми руками, хотя очень понравились прессе, публике и так далее. И я несколько таких фильмов назову.
Кадр из фильма «Патерсон»Фильм, который я назвал бы лучшим американским фильмом года, — это «Патерсон» Джима Джармуша. Поразительная картина, для Джармуша удивительно минималистичная, бессюжетная, совершенно при этом очаровательная, и от нее невозможно оторваться. История очень маленькой частной жизни человека, который живет в городке под названием Паттерсон, и у него фамилия Патерсон, а как его зовут, мы не знаем. Играет его Адам Драйвер — артист, которого вы, возможно, знаете по «Звездным войнам» или другим каким-то блокбастерам. Весь фильм о том, как он водит автобус и пишет стихи. О том, что он пишет стихи, знают только его девушка и его бульдог, а больше он никому об этом не говорит. Эта маленькая картина о том, что может противостоять энтропии, ужасу и чувствам катастрофы.
Лучший, на мой взгляд, европейский фильм года называется «Тони Эрдманн». Это история о взаимоотношениях взрослой дочери с пожилым отцом. Дочь — она такая офисная рабыня, человек, здорово встроенный в социальную жизнь. Она работает в большой компании в Бухаресте, живет 24 часа в сутки в состоянии постоянного стресса и напряжения, для того чтобы удержаться на вершине этой иерархии, куда женщин почти не пускают. Разумеется, при этом она давно забыла, что такое нормальная человеческая жизнь, и вообще слова для нее потеряли смысл. И вот ее пожилой папаша, вышедший на пенсию, такой шутник и провинциал, приезжает непрошеным гостем в Бухарест, чтобы сломать ей рабочую жизнь, но в то же время ее немного расшевелить, оживить. Вообще это портрет в жанре комедии. Естественно, комедия не только для того, чтобы поржать, а одновременно в себе что-то и заключающая. И опять же это фильм о том, как человека из социальной рутины вырвать, как его заставить почувствовать что-то человеческое.
Кадр из фильма «Служанка»Лучшим азиатским фильмом года я бы провозгласил фильм корейского режиссера Пак Чхан-ука «Служанка». Очень смелая и странная эротическая драма, триллер, отчасти даже комедия. Корейцы вообще славятся тем, что выворачивают наизнанку любые жанры. В данном случае это такой лесбо-феминистический манифест, спрятанный в оболочку хичкоковского триллера о жульничестве и убийстве. В Азии людям вовсе не обязательно делить картины на фильмы фестивальные и мейнстримные. «Служанка» — это абсолютно мейнстримный фильм в Корее, который собрал огромные деньги в прокате и, несмотря на то что он довольно непристойный, очень понравился публике. Он участвовал в фестивалях, в том же самом Каннском смотре, и никакого противоречия здесь нет. Это то, что на сегодняшний день корейцы и другие азиаты умеют делать лучше всех.
Кадр из фильма «Женщина, которая ушла»Наверное, лучший из фильмов, побеждавших на фестивалях в 2016 году, — это «Женщина, которая ушла», работа филиппинского режиссера, можно сказать, современного классика Лава Диаса. Этот филиппинский автор — очень колоритная личность с бородкой и длинными патлами седыми, такой философ от кино. В основном его фильмы длятся от восьми часов и дольше. Фильм, победивший на Венецианском фестивале, о котором я сейчас говорю, — это по его меркам короткометражка, всего три с половиной часа. Это тоже черно-белый фильм, экранизация новеллы Толстого «Бог правду видит, да не скоро скажет».
Кадр из фильма «Сьераневада» Дальше назову еще три фильма. В первую очередь это лента, которую я считал бы самой новаторской из тех, что видел в 2016-м. Это румынская картина «Сьераневада» выдающегося режиссера Кристи Пую. Она должна заставить любого русского режиссера просто рыдать от зависти из-за того, как минималистично, глубоко и вместе с тем забавно показаны травмы постсоветского существования в этом фильме, все действие которого закрыто в небольшой трехкомнатной квартире — такой совковой квартире, где собралась большая семья. Румыны вообще делают потрясающие фильмы. Они нашли свой румынский рецепт, связанный с функционированием их общества.
Далее идет фильм, который я бы назвал своеобразным открытием года. Я бы перевел его название словом «Отщепенцы» — возможно, это неточный перевод, в названии присутствует некая непереводимая идиома. Это лента режиссера Аны Лили Амирпур. Она иранка, родившаяся и выросшая в Лондоне и живущая в Америке. Это прекрасный фильм, в первые пять минут которого главная героиня отрезает и съедает одну руку и одну ногу, а дальше продолжает жить без них. Это прекрасное жизнеутверждающее кино, потому что она остается в живых, и в финале фильма — те, кто видел, подтвердят — мы наблюдаем несколько нестандартный, но очевидный хеппи-энд. В главных ролях заняты Киану Ривз, Джейсон Момоа и Джим Керри, не говорящий ни одного слова.
И классиком года я бы в этом году провозгласил Пола Верховена с фильмом «Она». На вопрос о том, принес ли русский кинематограф что-то новое и важное в мировое кино в 2016-м, я бы уверенно ответил: нет. Хотя, наверное, можно поспорить, поскольку фильм Андрея Кончаловского «Рай» все-таки получил «Серебряного льва» на Венецианском фестивале. В России никогда не снимались фильмы про холокост, фильмы про уничтожение евреев во Второй мировой войне в общественной традиции отсутствуют. Это странный и парадоксальный факт, связанный с цензурой. Поэтому в каком-то смысле Кончаловский снимает то, чего мы никогда не видели в отечественном кино.
Фрагмент постера фильма «Ученик»