Игорь Шулинский о своей книге, ссоре с «Афишей» и фоне 1990-х
Бывший редактор раздела «Клубы» журнала «Афиша» Наталья Кострова поговорила с создателем легендарного журнала «Птюч» Игорем Шулинским о поколении 1990-х и его романе «Странно пахнет душа». Этот разговор можно считать точкой в ностальгии по позапрошлому десятилетию.
Игорь Шулинский
Основатель журнала «Птюч» (1994–2003), в котором писали о техно-музыке, независимом кино, альтернативной моде, рейв-культуре, наркотиках, геях и всем том, что сейчас в той или иной форме запрещено российским законодательством. Также Шулинский был совладельцем одноименного клуба на «Новокузнецкой», возглавлял журнал «Time Out Москва», работал в ресторанной группе Кирилла Гусева.
Книгу Игоря Шулинского мне честно хочется прочитать. Однако немного удивляет, что это не мемуары, а фикшн. Почему это не воспоминания или дневники о «Птюче» и вообще том героическом времени?
Спасибо, что хотела прочитать именно меня, но, боюсь, с мемуарами я тебя подвел. Писал я тогда, конечно, что-то — полный бред, по-моему. Такой специальный жанр — кокаиновые записки. Сидим мы вторые сутки, и вот я забегаю на кухню — жили мы тогда в эмпээсовской высотке на «Красных Воротах» — и пишу: «Собака — страшная ловушка. Март 1994». Читаю это сейчас и вспоминаю, что мы сидели с Александром Голубевым (бизнесмен, инвестор журнала и клуба «Птюч», сейчас живет в Юго-Восточной Азии. —
Прим. ред.) и обсуждали, что же это такая за штука — семья, и пришли к выводу, что семья, как и собака, — это ловушка для нас. Очень оригинально, да? Или, например: «Рахманинов — жопа. Февраль 1995». Это мы, невменяемые, с Егором Кончаловским ехали по ночной Москве и спорили о русской душе… Так и сложилась бы эта книга — из обрывков воспоминаний и разговоров, и ничего там умного и интересного не было бы. Все, конечно, любят почитать про дебоши, скандалы: Владик Монро пять тысяч украл из сумочки, Огненную Леди (Олег Гусаев — один из первых российских травести-артистов, видный персонаж московской клубной сцены 1990-х годов. — Прим. ред.) сняли с поезда: он, оказывается, не знал, что путешествовать нужно с паспортом. Такого там предостаточно, но это совсем не то, что сейчас выйдет в книге. А почему нет?
Вот Оля Каминка написала книжку «Мои 90-е», и там понятно, что Фокус — это Хихус, и мне кажется, ничего бы страшного не было, если бы в книжке был настоящий Хихус (Павел Сухих — художник-комиксист и мультипликатор, основатель фестиваля «КомМиссия». — Прим. ред.). Потому что мы все знаем Хихуса, а тем, кто его не знает, им все равно — Хихус, Фокус, какая разница. Убери из «Полутораглазого стрельца» Бенедикта Лившица или из «Романа без вранья» Мариенгофа все фамилии? И сразу все потускнеет. Понятно, что в нашей компании вроде бы не наблюдалось Есенина, Маяковского. Хотя кто знает-то? Вот, например, Монро — теперь уж понятно, что это явление.
Тебе понравилась книга Хааса «Корпорация счастья»?
Она хорошая, хотя Андрей все же не писатель. Он талантливый организатор и очевидец. «Корпорацию» я прочел с удовольствием, потому что там очень много моих друзей — людей, которых любил и до сих пор люблю. А вот про современное искусство мне Хааса было не очень интересно читать. Да и вообще, чтобы мемуары вышли, нужно, чтобы время отлежалось, а оно еще не отлежалось. Во-первых, людям можно навредить: время у нас непростое и достаточно безобидные, но фривольные характеристики могут обернуться неприятностями для человека. Какого фига? Я стал с возрастом мягче. Зачем мне кому-то вредить?
Средства на издание книги Шулинского частично собирались с помощью краудфандинга — вот его видеопредисловие к проекту
Да ты, так сказать, и молод еще для мемуаров.
Дико молод. И вся эта возня вокруг 1990-х, если честно, напрягает. Я понимаю, что Colta с денежной инъекцией от Ельцинского центра изо всех сил пробивает эту тему, и в этом есть такая красивая «оппозиционность». Но подождите — зачем превращаться в государственные СМИ, но только с другим знаком? Дело не в том, что многие люди в 1990-х завтракали бутербродом с маргарином, а на ужин закусывали картошкой. Часть населения потеряла ориентиры. Это не обязательно пролетариат.
Я знаю профессора-физика, который действительно считал, что на улицах будут разводить костры, электричества не будет, черносотенцы будут врываться в дома, и он смотал на «огайщину», в Америку. Это было в 1993-м. И очень удивлялся в 1997-м, что я жив и мы спокойно с ним пьем водку.
И еще 1990-е были шансом, которым мы не вполне воспользовались. То есть время, которое ушло в никуда. Представляете, если бы «веселенькое десятилетие» — 1920–1930 годы — в Берлине не закончилось войной? Я уверен, что все было бы по-другому. Как «Человек в высоком замке» у Дика. У нас же тогда развивалось все так стремительно, что мы не замечали, кто есть кто. Вот опять тот же Владик Монро. Или Андрей Бартенев. Или Светлана Лазарева. Или писатель Егор Радов. Или Сергей Шутов. Кто эти люди? Неглавные персонажи, характеризующие эпоху? Или самодостаточные, талантливые, почти гениальные художники, а эпоха — фон для них и пища?
Вот что я имею в виду, когда говорю, что время должно отлежаться. Так что давай подождем с мемуарами. Воспоминания интересны, когда в них присутствуют величины, а короткое вневременье под названием 1990-е не успело сформировать параметры, по которым мы эти величины можем просчитать. От нас сейчас зависит, как это ни парадоксально, как будет звучать наше недалекое прошлое. Пока же это все сплетни. Кстати, были неоднократные чтения этих самых моих мемуаров — так называемые квартирники. И одна моя подруга, живущая сейчас в Лондоне, после этих самых чтений сказала: «Сколько тебе надо дать денег, чтобы эта книга никогда не вышла?»
И сколько?
Много. Дело не в этом. Сплетни мне неинтересны.
В интервью для Би-би-си ты сказал, что умер бы, как Кастанеда, если бы не написал свои «Игры в классики».
Не Кастанеда, а Кортасар. Напутаешь, как всегда! Выйдет потом интервью — Кастанеда! А вообще, это абсолютная правда…
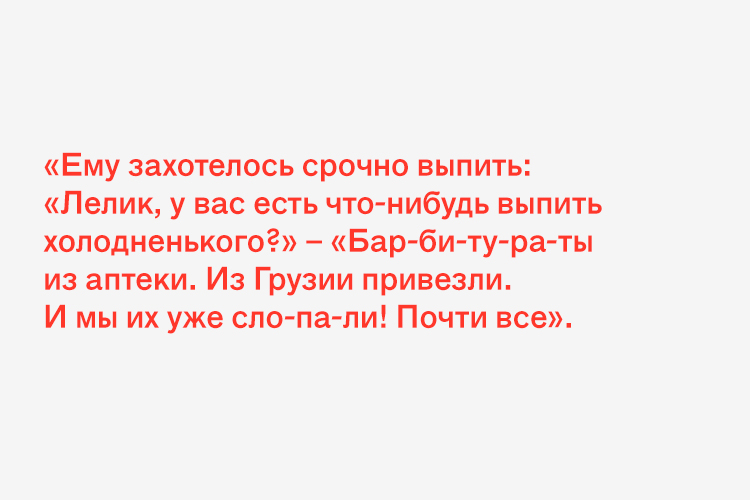
Цитата из книги «Странно пахнет душа»
Но ты сказал: «Я бы умер». Это что — игра слов?
Да никакая не игра! У каждого в жизни бывает такой период, когда идет какая-то очень серьезная переоценка. Кто-то называет его «кризис среднего возраста». Вот как раз у меня это пришлось на тот момент, когда я этот роман заканчивал. Я работал главным редактором журнала Time Out, и у меня произошло расставание со всем тем, что мне было тогда привычно и важно. Был такой период абсолютной прострации. Вообще я человек активный — у меня нет депрессий. А тут накрыло. Я это назвал «отморозкой».
Я с 1991 по 2003 год вел страшно активный образ жизни. Мало спал, много чего придумывал, жил в эйфории. Меня хорошо поймут наркоманы: ты как бы под допингом, до хрена серотонина. Встречаешься с людьми, смотришь фильмы, ходишь в клуб, спишь с любимым человеком… А потом оказывается, что люди не те, фильмы дурацкие, клубы вообще зачем, про любимого человека и вообще говорить не хочется. Это я и называю «отморозка». Приходит новая реальность, система внутри организма перестраивается, а у тебя нет для этого достаточных ресурсов. Вот в этой ситуации я и решил написать книжку «Странно пахнет душа». И в результате писание как процесс меня спасало. Мне не хотелось это публиковать — я вообще не для этого писал.
Я сейчас воспользуюсь словами человека, которого я очень уважаю и считаю своим литературным учителем — Владимира Сорокина, я ему носил свои рассказы еще в доптючевское время. И вот он говорил, что вообще никогда не был уверен, что его книги когда-нибудь напечатают. Для него литература была личной терапией. Вот эту личную терапию я и использовал.
Что Сорокин сказал про твои рассказы?
Он был деликатен, а рассказы были говно. Нас двое было таких — я и Илюша Бражников. Два таких мальчика. Мы собирались издать журнал «Пост», самое начало 1990-х, и главное в нем — рассказы Сорокина. Саша Гаврилов в нем участвовал, Саша Дельфин-Гринберг, Михаил Сухотин, классик шестидесятых Игорь Холин, Игорь Левшин… Виктор Ерофеев предисловие написал. Этот журнал должен был стать литературной бомбой. Но он не вышел — и по смешной причине. Тогда ведь любое издание набиралось — шло в набор, — и смоленские женщины, труженики типографии, отказались набирать этот альманах из-за мата, сорокинского гноя и «червия». Это должна была быть первая официальная публикация Сорокина, но не сложилось. И мои рассказы, как и весь роскошный литературный журнал «Пост», так никогда и не вышел.
То есть всю жизнь ты хотел писать, а в действительности редактировал и издавал чужие тексты?
Ой, послушай, Наташа, я и так всю жизнь пишу: рецензии, заметки, бизнес-планы, письма редактора… В конце 1980-х я писал сценарии рекламных роликов — и неплохо зарабатывал. Была такая компания «Алиса» Германа Стерлигова — у нее было много рекламы на телике, и я писал им сценарии. Тогда все чем-то таким занимались — Ценципер в рок-группе играл, по-моему (речь идет об участии основателя и первого главного редактора журнала «Афиша» в группе «Тупые». — Прим. ред.). Тогда технологии были другие — архаичные. Книгу выпустить было сложно, это был поступок — не то что сейчас…
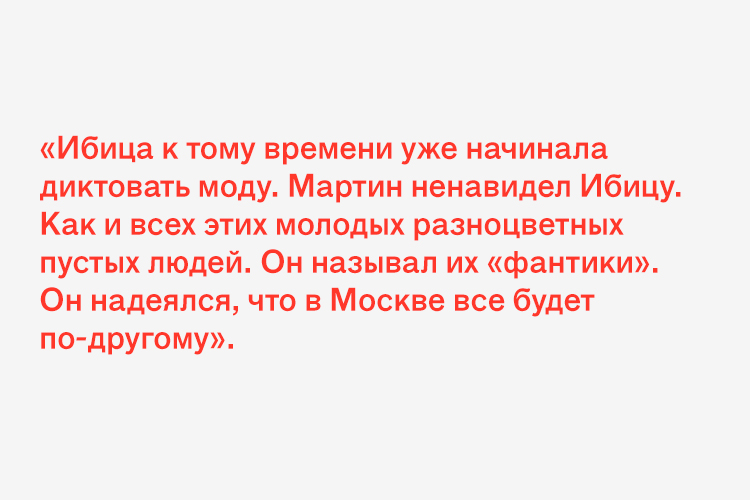
Цитата из книги «Странно пахнет душа»
«Странно пахнет душа» — это все-таки художественная литература или то, что интересно твоим современникам?
Хер его знает. Прочтешь и поймешь — литература или нет. Если ты меня спрашиваешь о жанре, то это роман, состоящий из новелл. Причем грязных, порнографических, хулиганских. Мне бы не хотелось, чтобы это лежало на полках большого книжного магазина. Ее купят друзья, товарищи, она должна попасть в правильные руки. Вот это правильно, я никому не наврежу, никого не оскорблю. Был у меня друг такой — Иван Салмаксов. Беру у него интервью — а он страшно ироничный, умный такой был персонаж — и спрашиваю: «Что ты думаешь по поводу клуба «М» и по поводу клуба «Б»?» А он: «Ой, не знаю, Игорь». — «Ты? Ты?! Известный промоутер и не знаешь?! Не верю». — «Но я тебе сейчас расскажу, что это клуб говно, а потом мне объяснят доходчиво, что клуб на самом деле очень хороший, и накажут, штраф выпишут. Не хочу я этого, не хочу». Вот и я не хочу.
Люди всю жизнь, может, ходят вокруг да около, делают наброски и боятся к книжке подступиться. А ты сел и написал.
Слушай, черт побери, я пишу, пишу, пишу. Я вот знаю только Гену Устияна (кинокритик, редактор журнала «Птюч», сейчас — главный редактор сайта Interviewrussia.ru. — Прим. ред.) — кстати, я не знаю, можно ли его имя произносить в «Афише», — который еще больше меня пишет. Пора уж нам с ним делом нормальным заняться — ресторанчик открыть молдавский.
— Вот ты знаешь, почему бумажные журналы у нас умирают, а на Западе процветают? Отвечай.
Плохо напечатаны?
Потому что врут. В Лондоне маленькие магазинчики через каждые сто метров — приходишь в среду, а все раскупили еще в понедельник. В английских журналах пишут правду. Вот ты сказал «…», и они пишут «…». Или вышла Барбра Стрейзанд, и в журнале пишут: «Барбра Стрейзанд сегодня была похожа на собачку, у которой выпали все волосы». И никто не ждет, что позвонит какой-то рекламодатель или представитель Барбары Стрейзанд и скажет: «Вы чего, офигели?»
А у нас как это дело устроено? Печатают неправду: герои интервью сами редактируют свои слова. Просят текст на вычитку и еще больше уродуют его. Журналы не виноваты: попробуй отказать дядьке в его справедливом требовании «посмотреть текст». Я, кстати, сам так буду делать, но не потому, что хочу, чтобы скрыли мою брань, а потому, что вокруг и внутри не должно быть вранья — ни случайного, ни специального.
Так про что книжка-то?
Так, слушай! Почему «Афиша» с Time Out враждовали? Отвечай.
Потому что про разное.
Нет. Еще раз. Давай, говори честно!
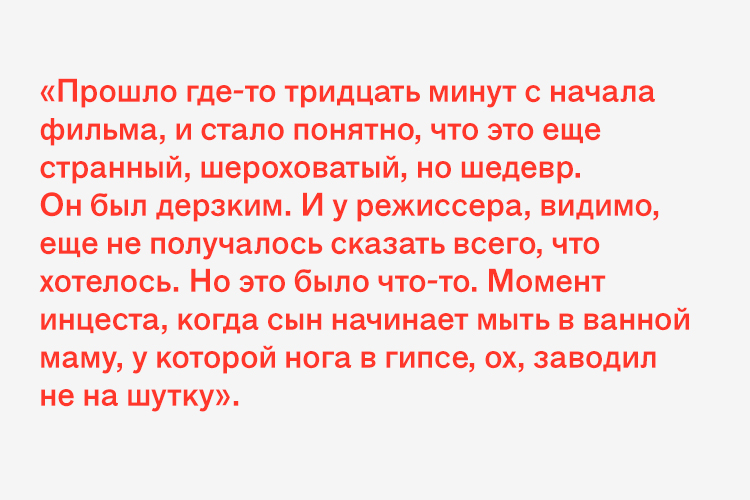
Цитата из книги «Странно пахнет душа»
Потому что «Афиша» лучше!
Тогда отвечаю я. Вот ты, Наташа, наглядно демонстрируешь принципы нашей прессы. Вернее, отсутствие всяческих принципов, из-за чего она, собственно говоря, умирает. На самом деле все было так: Илья Ценципер, фирменный жулик 1990-х, — и в этом нет ничего зазорного, это не обзывательство, это комплимент, — поехал в Лондон и раскрутил чудных английских дядечек на разрешение издания русской версии Time Out. Что-то там у него не сложилось, и в результате вместо Time Out вышел журнал «Вечерняя Москва». Но вот макет почему-то странным образом один в один копировал версию лондонского издания. Воровство, скажете вы. Именно так посчитали в Лондоне.
А мы, россияне, так не думали. Мы тут все крали: у правительства, у рекламодателей, друг у друга. Это была норма такая. Спросите у редакции «ОМа» и «Птюча» — где они брали иллюстрации? И сколько за них платили? Потом, когда появился в Москве Time Out, история с макетом снова всплыла. К тому же один важный сотрудник «Афиши» перебежал в Time Out — со всеми секретами. А знаешь, что за секреты это были? Например, реальные тиражи. А потом в Time Out пришел Шулинский, и это еще больше рассорило «Афишу» и Time Out, потому что в «Афише» собрались «дети Ценципера» и они знали, что Шулинский и Ценципер не в ладах. Из-за каких-то важных культурологических вопросов? Отнюдь.
Как-то лидер «Матадора» Илья Ценципер попросил лидера «Птюча» рассказать начинающему журналисту Валерию Панюшкину — по-моему, это был его журналистский дебют, — из чего же состоит клубная жизнь. И я потратил неделю, чтобы рассказать парню: это вот диджеи, это бандиты, это экстази, это хаус-музыка. К сожалению, он не понял. Потом-то он разобрался во всем и даже жалел, что такое написал. Хорошо, что в «Матадоре» работала моя старая знакомая Маша Шубина. Она мне прислала факс со статьей, и волосы встали дыбом. Дело не в том, что я там фигурировал в роли психоделического Винни-Пуха в пижаме Насти Михайловской, хотя ты знаешь, возможно, меня это и задело. Я же худой красавчик, телосложением больше похожий на Маугли, чем на Винни-Пуха. Но главное, что в тексте было много щекотливого: про бандитов, крышу — и печатать это было не нужно. Мы же друзья. Другое дело, если бы Панюшкин и Ценципер, прячась по углам и задворкам с диктофонами, узнали бы правду и в «СПИД-Инфо» ее бы опубликовали, — это была бы одна история, журналистское расследование. И флаг тогда им в руки. А тут я сам как на ладони все преподнес — ведь взрослые же мужики!
Я как прочел, позвонил Ценциперу и вежливо сказал: «Так нельзя». И такое ощущение, что что-то случилось с его слухом. Так как он ответил: «Можно так и нужно». Тогда я позвонил издателю «Матадора» — моему хорошему знакомому Константину Эрнсту. У него со слухом все было прекрасно. Он был к нам доброжелателен. Я приехал на встречу с Ильей в кубинское кафе рядом с редакцией «Матадора» на «роллс-ройсе» Александра Голубева (бизнесмен Александр «Птюч» Голубев — совладелец журнала и клуба «Птюч», сейчас живет в Юго-Восточной Азии. — Прим. ред.), чтобы пофорсить, и в результате поправки были внесены. Но осадок-то остался.
К чему я все это рассказал? Не для того, чтобы тревожить кости или Костю. Просто такие истории — ничего не значащая болтовня — на самом деле и есть факт времени. Здесь уже не важно — Ценципер, Шулинский… В книге я таких историй слепил и персонажей напридумывал: ноги от этого, голова от другого, чтобы никто не мог догадаться, откуда ноги растут. Остались только сюжеты, а персонажи — это искусственно слепленные герои, реальных исторических людей в книге нет.
Вот, например, главный герой — Мустафа. Собирательный образ. Я его и собирал как пазл: одна часть от одного моего знакомого, вторая — от другого. Роман меньше, чем жизнь. Моей задачей было компактно всунуть в каждый образ сразу несколько личин. Поэтому и получился вроде бы роман, я надеюсь.
И еще, наверное, это книга о сумасшествии. Вокруг нас очень много сумасшедших, ты не находишь? Как сказала мой редактор, «у тебя там все сумасшедшие». Поэтому эпиграф: «Не дай мне бог сойти с ума», я же тоже сумасшедший. И все мои друзья сумасшедшие в той или иной степени. Но главный герой действительно с психиатрическим диагнозом. Временная протяженность романа — с 1993-го по 2006-й. Действие последней главы, которую я дописал позже, происходит в 2018 году. Она называется «Привет тебе, Дутов» — и в ней Мустафа находится в лечебнице со многими другими известными людьми.
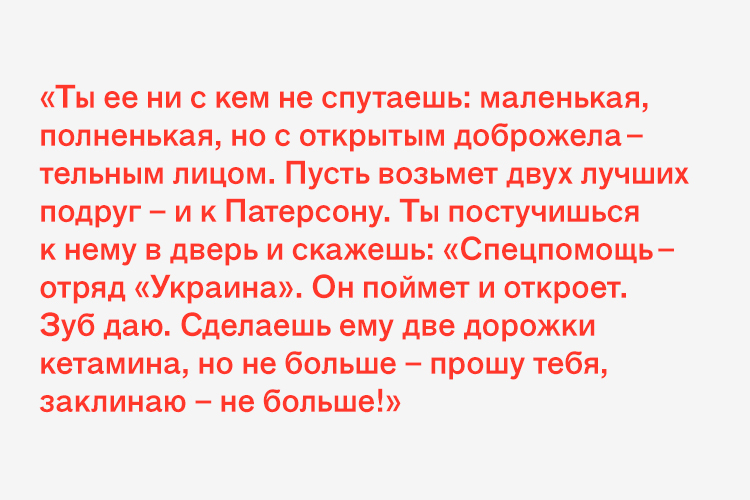
Цитата из книги «Странно пахнет душа»
С какими людьми? И почему 2018-й?
С этим годом многие связывают надежды на какие-то изменения.
Да! Связанные с чемпионатом мира по футболу.
Где мы всех порвем? Нет, я другие события имею в виду — скорее, политического окраса. Но никаких изменений, к сожалению, не произойдет. О чем и сплетничают пациенты лечебницы.
Так ты какие-то реальные фамилии называешь?
Конечно. У меня и в романе есть люди с реальными фамилиями — Богдан Титомир, Иван Салмаксов, Михаил Прохоров, Фридман, Чайка…
Прокурор?
Нет, сын его, Артем. Шутка.
А они все в лечебнице сидят?
Не все из названных — надо сохранять верность реальности.
Перед тем как согласиться со мной встречаться, ты взял с меня клятву, что будешь следить за публикацией интервью от и до. В связи с чем я сделала вывод, что для тебя выход книги — это что-то определенно очень важное.
Не должно быть ошибок. А у тебя в статьях всегда они были.
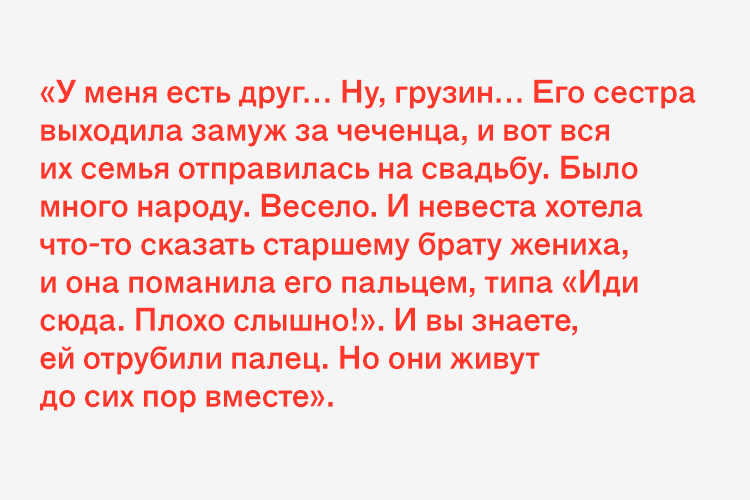
Цитата из книги «Странно пахнет душа»
Если отбросить все эти спекуляции, о которых мы говорили выше, то мы действительно попали в какой-то водоворот вместе со всем миром впервые. Слово «модно» в 1990-х для нас звучало как бы естественно. В советские годы не мог существовать фактор модности, хотя это не значит, что не было модников. 1980-е годы многие модные художники слушали арт-рок — например, группу Genesis; сомневаюсь, что такие вкусы поняли ли бы в Нью-Йорке. Это не значит, что Genesis слушать было плохо, а Spandau Ballet — хорошо. Просто есть такая вещь — модная актуальность, когда одно исключает другое. Наверное это глупо, но мода отчасти глупая вещь. Не то чтобы «Space Oddity» Дэвида Боуи хуже, чем его «Modern Love», — просто эти песни для разных времен. В 1990-е не хотелось бы говорить слово «мистический», но был какой-то прорыв. Не только у нас, а во всем мире. Все вспыхнуло, и неожиданно появилось очень много хороших людей.
Где они все сейчас? Я вот раньше выходил и видел, что их много, а сейчас мало. И какой-то сгусток энергии присутствовал, и он был, кстати, важнее, чем результат. Сейчас стали умирать некоторые герои 1990-х, и окончательно понятно, что за присоединение к этому сгустку порой приходится жестоко заплатить. И об этом, наверное, тоже моя книжка — о расплате. Ну я надеюсь. Помнишь фильм «Области тьмы» а-ля Филип Дик — с Брэдли Купером и Робертом Де Ниро? Там главный герой начинает есть какие-то таблетки и становится офигенно умным: все понимает, решает любые задачи. Потом врубается, что, если рядом нет таких таблеток, начинаешь умирать. Физически. Короче, там все гоняются за этими таблетками — кто-то умирает, у кого-то склероз. А главному герою, чтобы остаться на плаву, нужно взять ситуацию под контроль. Финал абсолютно фантастический: герой меняет химический состав таблеток. И вот он уже в сенате, и завтра он президент.
За революцией всегда идет реформация. За серотониновым взрывом — отморозка. И надо понимать, как из этого правильно выйти. Как двигаться дальше, когда реальность такая, какая она есть, да еще воспоминания настолько прекрасны, что они накрывают реальность с головой. Как в такой ситуации не сойти с ума? Можно превратиться в лузера — сказать себе: я лузер, буду сидеть дома, никуда больше не пойду. Можно, наоборот, социализироваться, приспособиться, заняться йогой, родить двоих детей и ездить летом в наш Крым. Оба варианта полярны, но между ними есть еще много всего. В свое время мне хотелось об этом поразмышлять, потому что сам попал в такую ситуацию.
Тебе казалось, что ты лузер?
Лучше бы казалось. А так пришлось поменять химический состав таблеток и взять производство под контроль. Я всегда вытягивал себя за уши.
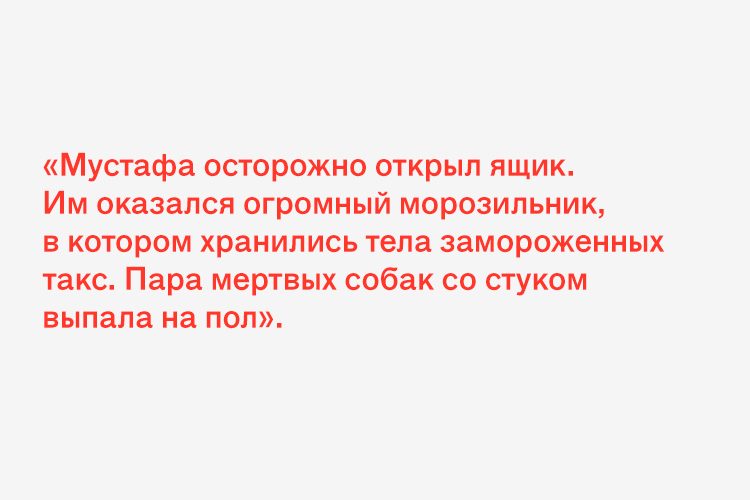
Цитата из книги «Странно пахнет душа»
Что значит «за уши» — продолжаешь веселиться?
В «Афише» был материал: известные люди размышляли о том, как круто в пятьдесят лет быть молодым и тусоваться в клубах c Айдан Салаховой, Вадимом Ясногородским, Виктором Майклсоном и кем-то еще. Я прочел внимательно, потому что это сейчас модная тема, все про это говорят. Но все это туфта. Я-то прекрасно знаю, что нормальный человек в пятьдесят так не тусуется. Ну вот хоть убейте меня — не тусуется, другое у него в башке. Я думаю, что и с героями этой статьи не все так, как они рассказывают: в 1990-е они не тусовались. Может, конечно, я ошибаюсь, но Ясногородского я не помню — он позже появился. Майклсон вроде бы тогда не в России жил… Айдан — мой близкий друг, и особенно в те годы, когда еще жила с Сережей Шутовым. И она, и Сережа — прообразы героев моего романа, и кусочки их личностей разбросаны по персонажам. Так вот, Айдан тогда не тусовалась — она все время сидела с сыном Каем, потому что была очень хорошей матерью. Ее мучила мысль о том, что она художник и галерист и не может своему ребенку уделить все свое время. Она никуда не ходила ночью. Мы с Шутовым шлялись по клубам, а она дома сидела, любила ужины при свечах, вкусно готовила всегда и слушала диско. И когда сын вырос, то — твою мать! — трусы на пальцы, и вперед.
Люди, которые начинали тусоваться в 1990-е, — если, конечно, они не сумасшедшие — уже не клубятся. Клубиться бесконечно могут только те, кто превратил тусовку в профессию. Например, диджеи. Они как футболисты: раз уж вошел в это, фигачь до конца. Зовут тебя Сережа Санчес — фигачь! Писать музыку? Ну ты же не Моцарт, ты Санчес. Или Сергей Сергеев — промоутер. Он сделал себе имя на этом, вложил всего себя — он очень хорош в своем деле. А если попытается соскочить, то что — переучиваться? На кого — на милиционера? Ты пойман в рамках своей судьбы. Вот за это я и не люблю наши журналы — они публикуют как бы не совсем правду. Вроде бы это и есть правда, но если копнуть… Мы — журналисты — подгоняем ситуации под определения, и от этого противно, черт побери.
Страница романа на краудфандиговой платформе Crowdrepublic Максимально образно о конкретном — в инстаграме «Афиши Daily».Какой тираж и когда, так сказать, релиз?
3000 экземпляров. Я хотел до Нового года успеть, но не вышло — книга начнет продаваться в феврале.
Ты хотел к новогодним праздникам, чтобы твой роман в подарок дарили.
Сомнительный это подарок. Я бы советовал в качестве подарка распечатать письмо матери Василия Гроссмана из гетто на фронт. Она знает, что ее расстреляют, и пишет сыну совершенно пронзительное письмо, и он еще не написал «Жизнь и судьбу», и она еще не умерла, а мы, читатели, уже знаем, кто такой Гроссман, и понимаем, что его мать погибла. Но письмо-то в настоящем! Вот именно за это литературу следует любить, она трансформирует время.
Игорь Шулинский — преподаватель Школы дизайна
В команде Школы дизайна стало на одного крутого профессионала больше. С этого года у нас преподает Игорь Шулинский — журналист, писатель, в прошлом — главный редактор легендарного журнала «Птюч» и Timeout. Игорь будет вести курс «Новые медиа» в рамках бакалаврского профиля «Медиа и дизайн». Профиль разработан для подготовки специалистов по созданию современных высокотехнологичных медийных продуктов и построен на сочетании дизайнерского и журналистского мышления, умения работать с дизайном и контентом в единой связке. Игорь рассказал о том, что ждет абитуриентов нового профиля, и почему для дизайнера важно «потрогать» журналистские жанры.
О курсе
Двухлетний курс под названием «Новые медиа» учит изобретать, составлять, творчески, стильно и логично оформлять тексты. В его основе лежит изначально возрожденческая история — создать совершенного специалиста, который одновременно и журналист, и писатель, и сценарист. Такой человек не только в состоянии написать рассказ или журналистский текст, но и отредактировать его, сверстать, проиллюстрировать и опубликовать.
Наша задача — научить творческого человека точно формулировать свои мысли и делать это безошибочно в плане грамматики и стиля. Когда он начнет достаточно четко мыслить этими категориями, а к тому же будет еще и дизайнером с выстроенным визуальным мышлением, то станет очень современным, профессиональным и востребованным медиа-профессионалом.
О профильном образовании
Конкуренции у нас, мне кажется, не будет. В России, на мой взгляд, никакого системного журналистского образования нет. Бывает, что отдельные журналисты пытаются поделиться опытом, но в академическом образовании наблюдается нехватка качественных программ, поэтому наш курс должен восполнить существующие лакуны — рассказать о целом ряде важных и интересных историй. Я, например, рассказываю о Vanity Fair, о Дороти Паркер и ее методологии. В то же время, мы не забываем о филологическом аспекте: что такое фабула и сюжет, кто такие Тынянов и Выготский. Однако мы стараемся минимизировать теоретическую часть — берем из нее самое-самое и тут же выпускаем человека в практику, потому что главная задача заключается в том, чтобы студент самостоятельно прошел все пути культурного обеспечения и на гора вывалил некий результат. Он должен пройти путь из точки А в точку В и в точке В, облагородившись знаниями, создать свой маленький проект. Это и есть обучение.
О проектном подходе
Постоянная работа над проектами — «фишка» не только Школы дизайна, но и всех нью-йоркских и английских образовательных центров. Мы разработали четкую образовательную программу курса: студенческие проекты в ней достаточно простые и в определенной степени привязаны к журналистским жанрам: надо будет писать новости и рецензии, делать интервью. Моя же задача — дать им опыт и возможности, позволить «потрогать» эти жанры с реальными персонажами, поработать с живым материалом. На занятия к нам придут совсем молодые ребята, и каждый из них создаст свою жанровую историю, чтобы ни у кого больше не оставалось сомнений в том, что такое «очерк», что такое «характер», что такое «интервью», что такое «рецензия». Таланты человека не всегда очевидны, поэтому надо рассказать и дать попробовать решить максимальное количество задач. У кого-то не получится интервью, но получится эссе, а если не сложится с эссе, то, может быть, удастся очерк. Важно, чтобы человек, взяв определенные тексты, конкретных людей или произведения искусства, смог зафиксировать свою рефлексию, опираясь не на эмоции, а на четкие знания и инструменты. Профессионал должен быть точен, должен знать и соблюдать определенные правила и некоторые табу, а также должен уметь их нарушать.
Мы будем постепенно погружаться в заманчивый мир медиа-цифры: сначала изучим алфавит и поймем азы, поработаем с различными стилями, потом постараемся влезть в самые разные медиа. Ведь сегодня грешно не уметь работать с видеопрограммами или не смочь обработать и выложить цифровой контент. Знание единых законов позволяет человеку быть дико универсальным вне зависимости от того, как и где он работает.
О востребованности выпускников
Профессионал, который в состоянии логично изложить и выстроить мысли, востребован всегда. Человек, способный грамотно писать, умеющий верстать, четко понимать разные стили, всегда будет чувствовать себя уверенно и конкурентоспособно. Наши выпускники смогут работать не только в редакциях, издательствах, дизайн-бюро, но и в любой институции, PR-службе, отделе продаж — везде, где есть интеллектуальные задачи и нужны грамотные профи для их решения.
Сейчас идет набор на бакалаврский профиль «Медиа и дизайн», в рамках которого студенты будут изучать курс новых медиа — занятия начнутся с начала учебного года. А в преддверии большого курса для всех третьекурсников Школы дизайна с апреля запустится вариатив по сторителлингу — авторский тренинг о том, как делать истории с точки зрения продюсирования, с точки зрения журналистики, с точки зрения сценария, с точки зрения рекламы.
Игорь Шулинский — журналист, писатель, преподаватель профиля «Медиа и дизайн» в Школе дизайна, в прошлом — главный редактор журналов «Птюч» и Timeout, автор многочисленных статей о современной культуре, совладелец маркетингового агенства Ptuch sound system.
Подробнее о профиле «Медиа и дизайн»
Игорь Шулинский о девяностых и XX веке :: Впечатления :: РБК.Стиль
«В Москву к нам стали приезжать люди из самых разных стран: «Конечно же, Москва — это Гонконг. Посмотрите, сколько у нас возможностей!» — рассказывал я своим новым друзьям. Мне понимающе кивали. И самые любопытные и сумасшедшие оставались здесь жить и работать. Кто-то мутил с недвижимостью, кто-то с финансами, кто-то просто мутил — авось, в мутной воде что-то поймается. Законы были не писаны в прямом смысле этого слова. И для авантюристов всех мастей Москва стала Клондайком. А наш клуб (теперь я гордо называл его «наш») стал Меккой, молельным домом, где по выходным все собирались, обменивались информацией, веселились, снимали стресс».
В романе «Странно пахнет душа» Игорь Шулинский, основатель и главный редактор культового молодежного журнала 90-х «Птюч», журналист, арт-дилер, ресторатор и диджей описывает шальные московские девяностые. Москва, накрытая «героиновым пледом», опьяневшая от свободы и возможностей, обласкивает своих героев, подхватывает на гребень волны и с размаху швыряет вниз. Драгдилер с замашками полубога, светская львица, вышедшая в тираж, успешный адвокат, угодивший в ловушку времени, бизнесмен, переставший отличать реальность от собственных страхов и фантазий — все герои Шулинского плоть от плоти своего поколения, до одурения вдыхающие кристаллики чистой свободы. Где-то среди них то и дело мелькает то журналист Игорь Шулинский, то загадочный Главный редактор, походя знакомя читателей со всеми знаковыми персонажами эпохи — от Богдана Титомира до Михаила Фридмана. На презентации книги Шулинский говорил, что после читки первых глав одна подруга спросила: «Сколько тебе надо дать денег, чтобы эта книга никогда не вышла», — так точно и безжалостно описана тусовка. Но в Шулинском-писателе эксцентричный Бегбедер соседствует с затворником Сэлинджером, и потому насыщенный деталями и подробностями роман не превращается в репортаж из собственного прошлого, а становится портретом поколения.

© пресс-служба издательства Эксмо
Пока жизни героев входят в штопор, они смотрят фильмы Вонга Кар Вая, обсуждают прозу Уильяма Берроуза, вышучивают эпатажные выходки художников и жадно занимаются сексом, под кайфом и без. В переплетающихся друг с другом новеллах романа жизнь отчаянно пульсирует в том странном ритме девяностых, который невозможно забыть, если отдавал ему пыл своей юности. Но и те, для кого девяностые приравниваются к шестидесятым, просто потому, что и то, и другое — доисторическая эра без Wi-Fi, соцсетей и рэп-баттлов, смогут, вчитавшись, уловить шлейф ветра перемен «с запахами абсента, ванили, сена и укропа».
«С Ритой мы сняли двушку в высотке на Котельнической, неподалеку от Библиотеки иностранной литературы. Мне ее сдал наш музыкальный редактор по кличке Sunny. В каждом номере журнала печатались мои переводы. Впервые на русском языке вышел рассказ Ирвина Уэлша «Еврохлам», отрывки из воспоминаний Тимоти Лири тоже впервые на русском появились у нас. Потом Уильям Гибсон и его друзья киберпанки. И совсем уж современные ребята: Дуглас Рашкофф, Дэвид Купер и другие. Я занимался любимым делом и был удовлетворен. Каждую пятницу мы зажигали в клубе у Мустафы. Потом перемещались на дебаркадер Сергея Сергеева, тогда молодого промоутера, только что вернувшегося из Англии. Заканчивали под утро в «Острове сокровищ» на окраине Москвы».
По просьбе «РБК Стиль» Игорь Шулинский назвал пять важных «поколенческих» книг, впитавших в себя дух своего времени.

Джером Сэлинджер «Над пропастью во ржи» (50-е)

© пресс-служба издательства ИДДК
Этот роман отличается от тех четырех, что будут перечислены ниже. Его судьба крайне примечательна. «Над пропастью во ржи» сразу стал бестселлером. Напечатанный в начале 50-х, он тотчас же попал в поток других американских шедевров. Не затерялся в нем, и даже потом был многократно переиздан, что дало возможность автору безбедно жить и заниматься своими религиозными экспериментами. Но поколенческий статус 60-х получил спустя десятилетие — во время сексуальной революции на Западе, Вудстока и эпохи «детей-цветов». На первый взгляд, это книга о бунте молодого человека против социальных норм. Именно это помогло ей занять почетное место среди произведений битников того времени, реальных бунтарей, в том числе и стилистических. Но на самом-то деле «Над пропастью во ржи» о взрослении и переходном возрасте, что свойственно каждой эпохе. Поэтому над книгой висит почти шекспировский ореол божественности. Роман о том, что все-таки любовь помогает человеку пройти через самые неприятные конфликты с самим собой.
Пол Боулз «Под покровом небес» (60-е)

© пресс-служба издательства «Азбука»
Роман о путешествии эксцентричной американской супружеской пары в Марокко вышел после Второй мировой войны. Пол Боулз был дружен с битниками, особенно с Уильямом Берроузом, хотя в ядро этой литературной группы не входил. Но выбрав Марокко на долгое время основным местом пребывания, он много общался все с тем же Берроузом, Алленом Гинзбергом, а также с такими поп-иконами, как Мик Джаггер. Этот роман произвел тягостное впечатление на современников. Хотя до сих пор входит в список лучших ста книг всех времен. А по цитируемости в поп-культуре он не уступает набоковской «Лолите». Led Zeppelin, Sting, King Crimson и многие другие не менее серьезные музыканты посвящали свои композиции этому роману. В «Под покровом небес» целый клубок смыслов. Но одна ниточка толще других: мы никогда не сможем ухватить вечность за хвост и жить с теми, кого мы любим, по общепринятым законным нормам. Если мы, конечно, умные и тонкие люди и не готовы на постоянный компромисс с самими собой. Роману присущи темы дикости и скатологии — герои постепенно погружаются в грязь, покуда она не захватывает их в плен навечно. Мир востока, как везде у Боулза, противопоставлен западу, тухлому и неинтересному. Но и восток хищен и коварен, хотя жизнь здесь — приключение, правда, порой смертельное. Произведения Боулза стали гидами для большого количества молодых шестидесятников, отправившихся искать свою сексуальную идентичность на восток.
Хулио Кортасар «Игра в классики» (70-е)

© пресс-служба издательства АСТ
После Пруста, Джойса, Кафки и Музиля европейский роман получил статус высокого искусства. Книга становится многостраничной, и чтобы преодолеть ее пространство, необходимо обладать достаточным интеллектуальным багажом. Слишком много аллюзий и исторических отсылок. В конце 60-х и в 70-е на сцену под овации вышел латиноамериканский «магический реализм»: Амаду, Борхес, Кортасар, Маркес, Фуэнтес, Хосе Села и другие. Маркес — самый известный в этом списке. Борхес — самый филологичный. Ну а самым культовым, поколенческим писателем был Кортасар. Его полюбили семидесятники Европы и Азии за вкусные и абсурдные сюжеты. За страсть, свойственную всем латиноамериканцам. И за умную интеллигентность, присущую в этом кругу, пожалуй, только ему. Да и внешне Кортасар был похож на французского актера фильмов нуар. «Игра в классики» — книга о поисках новой родины, о любви и изменах. И вообще о том, может ли хороший умный человек найти свое место в жизни, не потеряв себя. Сам писатель неоднократно признавался, что покончил бы с собой, если б не написал «Игру в классики». Из-за чего? Неудачной любви? Или непростой жизни в Париже? Кортасар оставил нам шифр, в чем оказался преемником большого европейского романа: вы можете читать эту книжку подряд, как обычно. А можете по указаниям автора, как бы прыгая в классики. Ведь жизнь не линейна, не так ли?
Герман Гессе «Игра в бисер» (80-е)

© пресс-служба издательства АСТ
Герман Гессе — блистательный немецкий писатель, пересидевший войну в Швейцарии. Был «откопан» поколением хиппи, и его роман «Степной волк» стал чем-то вроде манифеста «длинноволосых». Но главная его книга, пожалуй, «Игра в бисер», написанная в начале Второй мировой войны, когда еще не было понятно, чем все это закончится. И у интеллигенции было четкое ощущение апокалипсиса. «Игра в бисер» — настольная книга восьмидесятников. Именно в эти годы в нашу жизнь вошел постмодернизм — направление в искусстве во многом противоположное тоталитарному авангарду. Направление ироничное и в некотором смысле жизнеутверждающее. Когда автора невозможно поймать за хвост. Когда смыслов в художественном произведении несколько, и все они равны, даже если противоречат друг другу. В те годы было ощущение, что интеллектуальные игры реально спасут мир, что кровь в жизни будет заменена на клюквенный сок. И только желчный немец под вой бомб предвидел в 40-е тщету таких умозаключений. Никакому интеллекту не победить, потому что сам человек — самая страшная опасность для самого себя.
Алекс Гарленд «Пляж» (90-е)

© пресс-служба издательства Эксмо
Многие пытались надеть на себя корону главного писателя 90-х — Ирвин Уэлш, Дуглас Коупленд, Чак Паланик. Все они, конечно, прекрасны, но на королей не тянут. В лучшем случае на принцев. Британец Алекс Гарленд написал всего три романа. После двух первых надолго «сдулся». Однако именно «Пляж» стал библией 90-х. Эта небольшая книжка очень емко и беспощадно развенчала все западные «завоевания» девяностых — умные наркотики, секс, жизнь вне социальных норм, антикапитализм, нестяжательство… Как тогда этот юноша смог предвидеть, что красноволосые рейверы, которые в 90-е сделают состояние на новых технологиях, построят в Америке Силиконовую долину и организуют стотысячные пати от Манчестера до Сан-Франциско, превратятся в конце концов в скучных жестких зануд, еще более неприглядных, чем их родители? Сам «Пляж» по структуре что-то среднее между «Потерянным раем» Джона Мильтона и «Повелителем мух» Уильяма Голдинга. Антиутопия об острове в Таиланде, который открыла для себя группа тусовщиков. Там же драгдилеры выращивают наркотики. Никто друг другу не мешает, пока тайна присутствия сохраняется. Идеальная жизнь в идеальной среде. Но внезапно несчастный случай может поставить эту тайну под угрозу раскрытия. И как в этом случае себя вести? Этот вопрос ставит «Пляж» не только в разряд поколенческих романов, но и на символичную полку «вечных книг». И до сих пор туристы, в том числе и из нашей страны, продолжают искать загадочный остров, обшаривая территорию Таиланда.
Игорь Шулинский – Москвич Mag

Игорь Шулинский
 Рестораны и бары
Рестораны и бары Игорь Шулинский,
Теперь нам уже не понять, кто выиграет в битве двух гигантов общепита: «Чайхона» Васильчуков или «Чайхона» Ланского? Это противостояние закончилось совершенно непредсказуемо. Братья убрали из своих ресторанов название «Чайхона», теперь они называются Vasilchuki. А «Чайхона» так и остается во влад…
 Люди
Люди Игорь Шулинский,
Оуэн Мэтьюз написал три романа, и все они о России. Первый — как мы веселились в 90-е, второй — о трагической судьбе разведчика Рихарда Зорге. И третий — отрывок из которого мы публикуем — о герое рок-оперы «Юнона и Авось» капитане Николае Резанове.
 Люди
Люди Игорь Шулинский,
Умер хозяин популярного в нулевые клуба «Парк», лидер электронной группы Sex Of Insects.
 Люди
Люди Игорь Шулинский,
Этой весной Ирина Прохорова отмечает 15-летие возглавляемого ею Благотворительного фонда культурных инициатив. Издатель «Москвич Mag» Игорь Шулинский расспросил Ирину Дмитриевну о работе фонда и влиянии волонтерства и культуры на уровень гражданского самосознания.
 Кино
Кино Игорь Шулинский,
В Париже закончилась трехнедельная демонстрация проекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского. Издатель «Москвич Mag» Игорь Шулинский оказался там не случайно.
 Город
Город Игорь Шулинский,
Один из самых скромных и почтенных тружеников психоделических войн, заслуженный герой 1990-х Аркадий Насонов отважился на эксперимент.
 Люди
Люди Игорь Шулинский,
В книжных магазинах появилась книга Владимира Сорокина «Белый квадрат». Эта жесткая, нетипичная для позднего Сорокина книга возвращает нас к ранним экспериментам писателя. Игорю Шулинскому захотелось задать шесть неудобных вопросов Владимиру Георгиевичу.
 Город
Город Игорь Шулинский,
Книга перестала быть модным подарком. А когда-то, в годы моей юности, я часто слышал: «Достанешь такую-то книгу — буду страшно рад!» Сейчас, конечно, время не такое. Кому нужна книга? Их выкидывают на помойку, выставляют рядами на лестничную площадку, тяжелые объемные томики больше не являются ст…
«Героиновая мафия по-прежнему помогает» — Daily Storm
— Вам не кажется, что момент не лучший для такого запуска?
— Согласен, СМИ сейчас не самая перспективная отрасль экономики. Из всех плодов прогресса больше всего нагадили блогеры. Каждый ноунейм, усвоивший правила русского языка и интернет-срачей, начал претендовать на уорхоловские 15 минут славы. Каждая жопа получила возможность, как в песне Дэвида Боуи, хоть на день героем стать. Каждый школьник получил доступ к площадке, с которой он может делиться с миром своим очень веским экспертным мнением по любому вопросу — о зубах, об одежде, о самолетах, о геополитике. Поначалу аудитория была довольна, потом стали понимать, что блогеры в качестве СМИ — это полное барахло. Недостоверность, непрофессионализм и безответственность, безграмотная речь и продакшн на коленке. Да, доверие к СМИ утрачено, но разве это автоматически значит, что можно доверять… этим?
И тут появляемся мы. С подходом имени «Коммерсанта» и лично Андрея Васильева — мы говорим на интересующие горожан темы, раскрывая их с эмоцией и оценкой, но не изнутри, а поднявшись над схваткой — на высоту авторитета авторов-экспертов.
— То есть опять в духе 90-х, но с другой стороны?
— Ну, сейчас, в 2018 году, было бы глупо открывать новое городское издание в том виде, в котором его придумал основатель Time Out Тони Эллиотт 50 лет назад. Нет смысла на бумаге анонсировать какой-то концерт или выставку. Люди нуждаются в общении, уверенности, живой эмоции гораздо больше, чем в информации, которую они все равно получат у Google. С этим явлением, как мне кажется, связан успех муниципальных групп в социальных сетях, где люди обсуждают человеческие жизненные вопросы со своими соседями.
Другой взятый нами за образец пример верно выбранного тона — американский сайт для женщин Jezebel. У нас пытались сделать аналог, да интонацию не смогли выдержать, а в ней все дело. Вот, допустим, раздел «Мода». Обычная вводка — «Поступили в продажу новые ботинки от Сони Рикель на высоком каблуке, с красным верхом и черным низом…» Да кому это интересно читать в 2018 году? Как заходит Jezebel? «Господи всемогущий! Неужели я такая дура, что буду носить эти каблуки?» И все, готово.
То есть такой эффект личной вовлеченности — эффект социальных сетей. Можно назвать его гласом народа. Только этот голос народа должен быть обработан и персонализирован. Если группа Pink Floyd использует фолковый мотив, он зазвучит совсем иначе и тронет сердца большего числа людей, чем в его первозданном виде. Также мы берем голоса лидеров общественного мнения, и они говорят о том, что важно всем. Народная интонация плюс экспертная оценка.
Мы сейчас начинаем почти как во времена «Птюча» — на пустом месте. Просто тогда журналов вообще не было, а теперь в этом сегменте одни закрыты, а другие живут в собственных информационных пузырях. Они напоминают мне детей, играющих в героев Толкина. Связи внутри общества деградируют. Ведь журналистика — это язык, которым общество говорит с собой. У нас с коммуникацией проблема. Жители разбиваются не по субкультурам и даже не по сектам — по лепрозориям, и у каждого главного врача-редактора такого заведения своя повестка. На полном серьезе взрослые уважаемые люди занимаются вещами, которые я не могу понять. Снаряжают какие-то автобусы в [глушь], отправляют девушку в Никарагуа и потом публикуют ее дневник. Почему? Зачем?
— А правда, зачем?
— Я думаю, они так спасаются бегством. А мы не считаем, что надо куда-то бежать — хоть в лепрозорий, хоть на «Лепру», хоть в «Батеньку». Мы ироничны и правдивы — оба слова без приставки «пост». Надо научиться жить, приняв ту действительность, в которой мы оказались. Девиз и призыв у меня как по Войновичу: хочу быть честным, заниматься тем, что имеет ко мне непосредственное отношение. Мы бы хотели наладить общение городских жителей, стать такой communication tube. Ну и задача-максимум — «Москвичом» я хотел бы вернуть экспертной журналистике утраченное доверие. Не моими усилиями оно утратилось, но я хочу снова придать ценность хорошему мнению и хорошему вкусу.
— Что для этого нужно?
— Честная упорная работа на имя, на репутацию. Ну и пул крутых авторов, конечно. Вот, пользуясь случаем, торжественно обещаю отказаться в издании от «джинсы», то есть от проплаченного контента. Только рекламные блоки будут. Чтобы не вышло как в Time Out, где содержимое рубрики, например «Мода», зависело от того, кто занес, а редакторы ругались с рекламным отделом. Возможность быть честным сейчас есть, ее надо использовать. Может быть, потом опять придется контент продавать. Придешь ты ко мне в недоумении лет через десять, а я тебе скажу, что так вышло, скурвился я. Но сейчас есть возможность отвоевать право на доверие читателей, его не стоит упускать.
Пионер российского рейва о свободе, экспериментах и забытых писателях 90-х: Книги: Культура: Lenta.ru
Журналист и писатель, устроитель первых в России рейв-вечеринок, создатель журнала «Птюч», многолетний главный редактор журнала «Time out Москва», автор романа «Странно пахнет душа» Игорь Шулинский с группой единомышленников выпустили первый номер альманаха «Невидимки», посвященного литературе 1990-х годов. С Игорем Шулинским встретились критики «Ленты.ру» Наталья Кочеткова и Николай Александров.
Наталья Кочеткова: Когда люди видят обложку альманаха, спрашивают: он про привидения и московский транспорт?
Игорь Шулинский: Обложку мы выбирали несколько месяцев. Вообще мы хотели сделать альманах веселым, как старые журналы «Мурзилка» и «Веселые картинки».
Николай Александров: Самые скучные журналы в моей жизни (смеется).
И. Шулинский: Они были скучными по содержанию, а по иллюстрациям — нет. Там работали серьезные художники. Просто в них было много назидательных текстов — тебя, наверное, это пугало. Нам хотелось сделать красочный альманах, абсолютно хулиганский, непохожий на современный дизайн, — как мы в свое время делали «Птюч», тоже нарушая все законы и правила. И вот эта книга появилась на свет.
Н. Александров: Почему «Невидимки»?
И. Шулинский: Сначала название было «Невидимые». Когда мы собрались маленькой редколлегией, куда входили Аркадий Насонов, Павел Пепперштейн (я называю фамилии видных деятелей литературного процесса 1990-х годов), то Пепперштейн очень нежно, но твердо, как всегда это у него получается, сказал: «Ну почему «Невидимые»? Наверное, «Невидимки»». И сразу стало понятно: конечно же, «Невидимки».

«Невидимые», «невидимки» отсылают к статье Романа Тименчика, в которой он говорил о неких невидимых факторах литературы. Они не появляются на поверхности по разным причинам. Например, политическим, как Гумилев и Аннинский. Они не были в литературном процессе, как Маяковский или Есенин, но их воздействие на советскую поэзию было огромным. Вся поэзия от Тихонова и Сельвинского до наших дней, прогумилевская. «Капитаны» и так далее. При этом их не было на магазинных полках, их не было в учебниках, их как бы вообще не было, но они существуют.
1990-е годы интересны были еще и потому, что в это время было гораздо интересней жить, чем заниматься творчеством. С другой стороны, само творчество было другое. Совершенно непонятное ответвление литературной традиции, которая фиксировалась, но фиксировалась как когда-то в советские годы в самиздате. Было очень много самиздатовских проектов.
И мы хотели создать альманах, посвященный времени, писателям, из которых не все пробились сквозь лед. По разным причинам. Но на мой взгляд, очень сильно повлияли на сегодняшние литературные процессы.
Н. Кочеткова: С твоей точки зрения, кто повлиял на писателей 1990-х? Понятно, что не советские писатели корпуса до 1980-х годов. Наверняка, это было странное боковое влияние, такой ход коня?
И. Шулинский: У меня есть теория, что Россия, как литературная страна, в свое время была одной из самых передовых в мире, в Европе как минимум. Начиная с русского реализма XIX века, через Серебряный век и через 20-е годы ХХ века она держала моду. Наши писатели и художники были самыми интересными, они были вписаны в контекст европейской культуры, модной, современной, двигающей прогресс. Тексты были слиты с визуальным рядом — футуристы, авангардисты. И в этом смысле наши обэриуты в творчестве предвосхитили то, что делали ребята круга Беккета или мрачных швейцарцев и австрийцев, которые появились позже. Но как мы знаем, действительность накрыла железным сапогом и даже те, кто остался жив, Всеволод Иванов, Юрий Олеша, перестроились. Для кого-то это была трагедия, для кого-то эксперимент, но мы получили ту литературу, которую мы называем основной. Остальное стало боковым.
Прекрасные поэты Евтушенко, Вознесенский, Роберт Рождественский, прозаик Аксенов — это основное, а например, Игорь Холин, Генрих Сапгир, Евгений Харитонов, Юрий Мамлеев — они как бы сбоку. На мой взгляд, это не так.

Игорь Холин
Фото: Виктор Великжанин / ТАСС
Поэтому когда мы делали этот альманах, мы сделали раздел «Предтечи» — люди, которые повлияли на литературный процесс. И это прежде всего это лианозовцы. Некоторые из них очень известны, как Генрих Сапгир, например. А некоторые, как Ян Сатуновский, один из самых проникновенных и лиричных поэтов, не очень знаменит.
Еще там есть раздел, названный словом «Последыши». В нем мы как раз хотели показать тех, кто после 1990-х пошел вперед. Нам кажется, что мы нашли нового Набокова, уникального по силе и мощности, и вообще много молодых писателей 20-30-ти лет, которые развивают литературу именно в этом «боковом», а на самом деле основном направлении.
Н. Александров: Все же если говорить об авторах 1990-х годов, которые здесь представлены, каков состав имен?
И. Шулинский: История была очень простая. В 1990-м году я со своими товарищами создал литературную группу «Пост», задача которой была представить читающей публике писателя Владимира Сорокина. А мы причисляли себя к «сорокинцам». Еще с нами был писатель Виктор Ерофеев, который нас, как Державин, похлопывал по плечу. Он написал предисловие к этому сборнику, но все было вокруг Сорокина. И мы хотели издавать такой сборник, посвященный 1990-м годам.
Но случилась уникальная история: работницы смоленской типографии отказались печатать этот сборник. Он был сдан, мы нашли на его печать деньги. Тогда ведь печатали старым способом — не было компьютеров, если можно себе такое представить. Они прочли рассказ «Обелиск» Володи и просто вышли на демонстрацию, как рассказал человек, который был нашим коммерческим представителем. Сотрудницы сказали, что уйдут с работы, и заявили: они хотят чтобы эта книга никогда не увидела свет. Это был протест и вой женщин. Наверное, не стоит напоминать, о чем рассказ «Обелиск». Это как бы воспоминания о Великой Отечественной войне, и некое ее видение в исполнении грозного и страшного Сорокина. Хотя это, конечно, такой кафкианский текст о совке, реализме. Действительно может быть и страшный, но на мой взгляд, больше смешной.
И наша группа, которая только набирала мощность и насчитывала уже человек 20, нас приглашали на «Эхо Москвы» с этим сборником, развалилась. Для каждого это был удар — каждый пошел заниматься своим делом. Я стал делать журнал «Птюч». Мой напарник Илья Бражников занялся научной карьерой. Дмитрий Поляков уехал преподавать физику. Саша Дельфинов ушел в сольные проекты. Кто-то ушел в монастырь. Кстати, было много таких литературных группировок 1950-60-70-х годов, которые не начав двигаться, разваливались. Как бы изменилась наша личная судьба и как бы пошел литературный процесс, если бы эта книжка появилась? Возможно, мы не издавали бы сейчас «Невидимок».
Изначально мы хотели взять этот журнал, который неожиданно сохранился в пленках, и его напечатать. Но в ходе работы мы встретились с широким кругом писателей и художников. И я увидел тексты и картинки, которые меня заворожили. Фантастические тексты Сережи Ануфриева, художника организатора «Медицинской герменевтики», старшего партнера Паши Пепперштейна, которые меня не то что поразили, я увидел, что он такой русский Пол Боулз. Он не печатался ни разу, кроме стихов в альманах ничего не представлено.
Я увидел тексты очень ироничного писателя Капкина, с которым я в 1990-х годах, работая в газете, часто встречался на Никольской улице. На этой улице была аптека, а рядом «Кулинария», где разливали водку. Огромный бородатый мужик, пил водку и рассказывал байки. Он был очень популярный человек, работал в десяти разных изданиях, писал какие-то истории. Я их читал. А потом когда они попали ко мне единым куском, я понял, что это шедеврально, нельзя их не печатать.
Так наша личная тема отодвинулась, и мы поняли, что у нас в руках уникальная история «невидимок» — писателей, не известных большой аудитории, которые по тем или иным причинам не выстрелили. Но я уверен, что их влияние продолжается.
Н. Александров: Помимо Сорокина, который как светоч сияет, Сергея Ануфриева, кто еще? Егор Радов?
И. Шулинский: Конечно, Егор Радов! Он связан со мной большой личной историей — он работал у нас водителем. Это был один из самых удивительных водителей, которые встречались в моей жизни. Он был человеком-приключением. Он мог ворваться на деловое совещание, когда мы продавали рекламу, и сказать, что уже поздно и надо ехать домой. Когда мы пытались наладить связи с модной группой петербургских художников, учеников Тимура Новикова, которые смотрели на все подняв нос (это было в самом начале 1990-х), то прибегал водитель и говорил: «Я сейчас принесу роман». «Какой роман?» «Да «Змеесос»… Художники спрашивали: «У вас что, водитель — Егор Радов?!» Что поднимало наш рейтинг, и мы легко входили в те круги, в которые не могли войти по причине нашей молодости и безвестности. Поэтому Егор Радов — очень важный персонаж в моей жизни.

Он приносил мне свои рукописи, доверял. Говорил: «Ну ты же меня издашь, правда?» «Конечно», — говорил я. Он трагически погиб в Индии. И его жена погибла. Это вообще такая трагическая фигура. Очень крепкий писатель, на мой взгляд. Его рассказы здесь тоже есть, некоторые из них совсем неизвестные. Один из них мой любимый — он был напечатан в журнале «Птюч», цитата из него была вынесена на обложку в один из самых драматических моментов нашей истории, когда внезапно начала появляться цензура, и мы пытались в те годы бороться с этим.
Кроме Егора Радова и Сергея Ануфриева есть Павел Пепперштейн. У нас не просто отсыл к памяти, не просто ретроальманах. У нас есть рубрика, которая называется «Сегодня», — она о том, что писатели 1990-х делают сегодня. И там есть очень изящная, на мой взгляд, повесть Павла Пепперштейна. Совершенный свежак.
Еще есть Игорь Левшин — писатель, которого я всегда очень любил. Его совершенно не печатали. Что странно: у всех его компаньонов, будь то Николай Байтов или поэт Бараш, литературные судьбы сложились. А Игорь Левшин, дожив до 60 лет, так и остался маргинальной фигурой. Он еще играет на гитаре, поет песни, собрал группу — совершенно неожиданный персонаж. В середине 1990-х у него было несколько вещей, точнее две повести, но очень важные. Это следующий шаг после Сорокина. Может быть, не шаг, а шажочек, но это важное движение в более тонкие сдвиги пластов текста. И это надо зафиксировать. То, что повести не были напечатаны 25 лет — это преступление для процесса. Потому что если что-то из него изъять, другие тексты тоже тормозятся.
Мне было интересно, как эти вещи читаются сегодня, не стали ли они просто частью истории. И знаете — очень свежо. И мне кажется, что Игорь Левшин — центр книжки.
Есть и много открытий. Например, общество «Тарту». Это группа поэтов и писателей, которая называлась «История таинственности». Они писали странным методом. Находясь в одном пространстве, каждый из них писал четверостишие или двустишие. Это был постоянный поэтический клуб. Слава богу, что был такой человек Аркадий Насонов. Всегда, знаете, в Серебряном веке, в 1920-х годах, есть человек, который собирает за всех архив. Так вот Насонов сохранил коробки исписанных разными почерками тетрадей. Я на время забрал все эти коробки, и было сложно понять, где Ануфриев, где Дельфинов, где покойный поэт Евгений Кемеровский. Когда мы делали альманах, мы пытались фрагменты этих тетрадок напечатать, чтобы показать, как шел процесс, как шла мысль. Я выбрал из нескольких тысяч текстов несколько десятков, и мне кажется, что это дико интересно. Это не просто поэтический или психоделический эксперимент, это форма жизни языка. И понятно, откуда это идет: от лианозовцев, от обэриутов, от футуристов. Настолько свободны были люди в 1990-х, что эту свободу мы сейчас даже не можем себе представить.

Павел Пепперштейн
Фото: Павел Смертин / «Коммерсантъ»
Н. Кочеткова: К вопросу о свободе 1990-х. С одной стороны, эти годы были сравнительно недавно, с другой — это уже некоторая временная дистанция. И они оцениваются очень по-разному. Кто-то говорит о сломе, о трудностях, которые были, другие говорят не просто о свежем воздухе, а об урагане, который смел все старое, что позволило появиться большому количеству новых вещей. Понятно, что невозможно говорить о литературе без контекста, как бы ты сейчас определил 1990-е?
И. Шулинский: С литературной точки зрения?
Н. Кочеткова: Скорее, в первую очередь с исторической и общечеловеческой и уже, как следствие, с литературной.
И. Шулинский: Может быть, все уникальное в этом пространстве недолговечно. Но мне кажется, что это был уникальный шанс, когда мы со всем миром впервые за долгое время опять вдохнули один и тот же воздух. Это было очень важно. Например, человек конца XIX века или начала ХХ-го, до Первой мировой войны, путешествуя из Москвы в Париж или Лондон, говорил на одном и том же языке с жителями этих городов. Я сейчас не просто про язык общения, он мог не знать английского или французского, я про культурное существование. Писатели, художники, теоретики, танцовщики были едины. Границ практически не ощущалось. Потом, когда появился советский режим, железный занавес, мы были обречены ловить все то, что прошло сквозь него. Например, люди, которые увлекались музыкой и считались знатоками, искали музыку, которая была написана на 10 лет раньше. Музыка 1970-х дошла до России только в 1980-е. Мы стали страной отсталости, такой чухонской глубинкой. Финляндия и Швеция, не очень веселые страны в те годы, казались форпостом всего необходимого, нового в моде, литературе, искусстве, жвачке — в чем угодно.
В 1990-е очень быстро, без всяких компьютеров, мы стали интересны другим странам, другим людям, мы влились в этот процесс. Когда в Москву приезжали люди со всех стран, мы ездили, и везде мы говорили на одном языке. Я никогда не забуду, как в Стамбуле в отеле Kempinski собрались родственники Орхана Памука, еще какие-то люди и 24 часа говорили о музыке, о культуре, искусстве, электронной музыке, литературе — мы чувствовали себя едиными. И это 1990-е годы. И не в том дело, что кто-то мазал маргарином хлеб вместо масла. Единение, прорыв в космос.
Поэтому неслучайно в начале 1990-х годов с культурной точки зрения важной была танцевальная история Gagarin Party. И как бы снобы ни кивали, танцы в эти годы можно сравнить с танцами дервишей, они были больше, чем просто дискотека под музыку, это была глубинная метафизическая история. Вот это вырывание в космос и есть определение 1990-х годов.
Игорь Шулинский, или встретить кумира юности и остаться собой: miracleforlife — LiveJournal
Иногда мне кажется, что по-прежнему мечтаю жить-тусить в 90-х. Время идёт. Родившиеся в те годы становятся успешными молодыми бизнесменами. А я, как герой Вуди Аллена «Полночь в Париже, хожу и мечтаю-переживаю, что родилась с опозданием.
Увидев в Фейсбуке информацию о лекции Игоря Шулинского, вздрогнула. Этот человек даже не подозревает, сколь много повлиял на наши тогда 17-летние умы. Мы с подружкой хвастались, сколько накопили «ПТЮЧей» до того, как познакомились. Менялись экземплярами и отслеживали новые. В каждом магазине их не продавали. Нужно было знать места. В Воронеже это были книжно-журнальные палатки в центре. Иногда я каждый день ходила туда в ожидании.
Хорошо, что вовремя добавила Наталью Плеханову в друзья. Иначе бы эта встреча прошла мимо меня.
Шулинский был для нас сродни Богу. Ладно, пусть божку. На третьем курсе я нарисовала обложку своего будущего журнала. Не скажу, что один в один. Но многое слизала, честно. Препод, к которому на втором курсе я ходила на пересдачи, как домой, поставил мне пять с первого раза.
В то время, когда наши однокурсники писали в местные газеты о всякой ерунде, мы мечтали о великом. Я мечтала. Пора уже взять 100%-ную ответственность за свои действия. Моя подруга… она просто была рядом.
Я мечтала написать свою «Больше Бена», познакомиться с Егором Радовым и писать свои невнятные творения под крылом Шулинского. Тот журнал, который был смоделирован мной в качестве домашки, назывался Freak. Просто и со вкусом.
Господи, Шулинский, где ты был тогда? Мне приходилось жить с этим самостоятельно.

Фрики. Нам всюду мерещились креативные уродцы. Когда в очередной раз становилось понятно, что показалось, приходилось добавлять экстрима в свою внешность. Но мир уже становился другим. На улице был 2004 год и меня в оранжевых джинсах с красным мехом не пустили в «Пропаганду».
«ПТЮЧ» – он был как пандус для инвалидов. Тогда мы все были уродцами, фриками.
«ПТЮЧ» умер. Да здравствует новый реальный мир. Мы плакали с подругой. Я доказывала своей любимой преподше, что курсяк по постмодернизму на примерах «ПТЮЧа» является классной идеей. И диплом про Радова тоже тема интересная.
Мир становился совершенно другим. Но я по-прежнему жила в 90-х.
Периодически Шулинский где-то всплывал. Мы с подругой воспринимали эти известия, как явления Христа народу. Потом я узнала, что он главный редактор в московском Time Out. Но меня к тому моменту наконец-то отпустило.
И вот лениво листаю Фейсбук перед сном. И хоп. Оно. Лекция нашего Hero в «Рубинштейне». Меня так трясло в эйфории, что боялась забыть в последний момент.
В Питер Шулинский приехал с книгой. Когда мы оплакивали «ПТЮЧ», он писал её. Писал, как дневник. Как исповедь. Смотришь на него и веришь ведь словам о том, что, и правда, не собирался публиковать.
Первый тираж раскупили ещё во время сбора средств при помощи краудфандинга. «Странно пахнет душа». Я пролистала её по-быстрому, пока сидела в первом ряду. Она классная. И хоть Шулинский всячески пугал, что там много жести, она прекрасна. Это именно та художественно-бытовая литература, которую можно оставить и детям.
Шулинский честно признался, что рад показать своему сыну, что не такой зануда, каким предстаёт дома.
— Хочется, чтобы наши дети знали, а мы тоже были ничего.
Помимо того, что мне просто нравилось сидеть и впитывать атмосферу, я услышала ещё кое-что важное. Главный редактор самого эксцентричного издания страны сказал, что знал с детства, что будет писать. В тишине он прочитал несколько своих стихов, после чего самые преданные побежали за автографом.
Сидевшая рядом бабуля сказала мне, словно желая подпортить эйфористичность данного вечера:
— А стихи у него всё же ужасные.
Это не правда, мэм.
Никто не должен писать, как Пушкин. Но каждый должен иметь своё собственное мнение, когда пишет.
