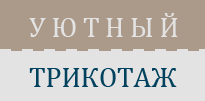Дина Рубина: «Израильский литературный истеблишмент — закрытая каста»
– Ваше детство прошло в Ташкенте. Как там оказались ваши родители?
Война пригнала, как и многих представителей еврейской национальности, проживающих в СССР. Дедушки-бабушки, жители Украины – эвакуировались; мама – приехала поступать в САГУ – Среднеазиатский государственный университет, а отец вернулся в Ташкент с фронта, к эвакуированным родителям.
Мама преподавала историю, и потому вынуждена была вступить в партию, хотя коммунистов, со всем их ареопагом святых, всю жизнь именовала не иначе, как «бандитами», не слишком даже понижая при этом голос. Отец – тот вообще был сам по себе, ибо был настоящим классическим художником, то есть отдельным во всем человеком. Наравне с кумирами – и партийными в том числе, ибо семье надо было что-то есть, он творил дивные натюрморты, которые и сейчас время от времени всплывают на разных аукционах за немалые деньги.
– Какие-то элементы еврейской жизни присутствовали?
Бабушка, мамина мама, на Песах сама пекла мацу, круглую почему-то.
Женщина Востока
Дина Рубина родилась в 1953 году в Ташкенте. В 1977 году Рубина окончила ташкентскую консерваторию, преподавала в Институте культуры. В возрасте 24 лет она стала членом Союза писателей УзССР — на тот момент самым молодым в стране членом подобных организаций. В Москве писательница жила и работала до отъезда на постоянное место жительства в Израиль в конце 1990 года. Проживает в городе Мевасерет-Цион. Рубина стала автором трех вариантов «Тотального диктанта», который прошел в 2013 году.
Родители говорили в семье исключительно по-русски, а вот мама с бабушкой – да, говорили-таки на идише. Им так было проще, быстрее. Ну и конечно, иногда это делалось для сокрытия, для шифровки сплетен: такая-то переспала с директором школы.
– Ташкент был одним из немногих мест в СССР, где действовала синагога. Вы там бывали?
С первым свекром покупали на Песах четыре пачки мацы. Это ощущение замшелости, потаенности, шепотка на идише (какой-то старикан одобрительно сказал про меня: «шейне мейделе!») я потом описала в романе «Белая голубка Кордовы». Свекор был из румынских евреев, судьба нелегкая, человек нелегкий… и по субботам ходил по дому в ермолке.
Когда родился мой сын, его внук, – настаивал на обрезании. Но понимал, что апеллировать к еврейскому закону передо мной – дело пустое. Говорил: «Ты не понимаешь, это здоровее, гигиеничнее». Я – мне было лет 20, третий курс консерватории, – бойко отвечала: «Миллиард китайцев живут необрезанными и не слишком парятся за гигиену».
Но тут у ребенка начался фимоз, и свекор уговорил меня не в больницу ехать, а обратиться к моэлю, мол, этот режет всю жизнь, рука привычная. И у нас дома совершился обряд брит-милы. Я сидела в косыночке, волновалась за младенца и думала: ничего более идиотского со мной не происходило. Но старичок моэль мне так понравился – писательский глаз сработал. Ну, а сын уже в Израиле был благодарен за то давнее решение.
Но старичок моэль мне так понравился – писательский глаз сработал. Ну, а сын уже в Израиле был благодарен за то давнее решение.
– Кстати, о «писательском глазе»: помните ли вы, с чего это началось? Когда имел место ваш первый литературный опыт?
Когда родилась сестренка, младше меня на пять лет, в садик за мной пришла соседка тетя Тамара. И по дороге домой, держа меня за руку, спросила, рада ли я, что родители «купили» мне сестричку? Я немедленно выдала свою версию. «Понимаете, тетя Тамара, – сказала я, – вообще-то мы хотели купить мальчика, но еврейские мальчики там кончились, остались одни корейцы. Пришлось брать девочку, пока и они не закончились». С тех пор, когда я начинала что-то сочинять, папа говорил: «пошли корейцы». А когда в журнале «Юность» был напечатан мой первый рассказ, он сказал: «Это ж надо! Корейцы приносят прибыль».
– Ваш муж – художник. Трудно ли двум творческим личностям ужиться в одной семье?
Мы с Борисом, слава Б-гу, слишком заняты каждый своим делом. Ну, сначала я повоевала, конечно, чтобы кисти в раковине не мыли… Потом думаю: а где же их мыть, черт побери? И смирилась.
Ну, сначала я повоевала, конечно, чтобы кисти в раковине не мыли… Потом думаю: а где же их мыть, черт побери? И смирилась.
– Вы показываете ему свои произведения до публикации?
Да. Это мой самый первый, самый главный и строгий читатель, которому я полностью доверяю. Он всегда очень волнуется, когда читает рукопись, – как бы я не сваляла чего. Потом успокаивается. Потом что-то скупо говорит… И наконец, последний этап: слушает начитанный мною же текст, когда работает. Если текст трагический, что бывает, – то смахивает слезу.
Дина Рубина
У нас с Борисом две совместные книжки, которые и совместными назвать нельзя, скорее – параллельные. Сборник «Холодная весна в Провансе» получился как бы сам собой: год выпал такой, что мы много разъезжали, а по приезде домой каждый разбегался к своему станку. Спустя какое-то время обнаружили, что я пишу новеллы – об Италии, Испании, Франции… а Борис в то же время пишет акварели и масло, в которых – те самые места, о которых я пишу.
Идея сборника новелл «Окна» пришла нам в головы тоже практически одновременно. Мы перевозили картины Бориса в его новую мастерскую и вдруг обратили внимание, что чуть не в каждой картине присутствует окно. Самые разные окна, венецианские, окна Парижа, окна Иерусалима. Оставалось только сесть и написать сборник, где бы в каждой истории непременно фигурировало окно, с которым был бы связан сюжет.
– Собаку вы тоже на двоих делите?
Шерлок – душа дома. Художнику без собаки никак нельзя: еще со времен Гете собака – попутчик художника и… черта. А у меня, когда днем я выхожу прогуляться со своим псом, самая работа и начинается. Идешь себе над ущельем, внизу – дорога, впереди бежит пес, и мысли бегут-бегут по сюжету, что-то связывают, от чего-то отказываются…
– Вы живете возле Иерусалима. Нет желания переехать в столицу, как это и подобает маститому израильскому писателю?
 Была бы моя воля, уехала бы куда-нибудь на хутор, которых в Израиле, кажется, нет. Иерусалим – сложный город.
Была бы моя воля, уехала бы куда-нибудь на хутор, которых в Израиле, кажется, нет. Иерусалим – сложный город. – Отвлечемся от Израиля. В начале нулевых вы работали в Москве. Чем эта работа была для вас лично, кроме сюжета для «Синдиката»?
Вот этим и была. Разве этого мало? Эти три года я рассматривала для себя как творческую командировку – за темой, новейшим русским языком, за типажами. Недавно какой-то новый «синдик» рассказывал, что перед отъездом в Россию его инструктировали по разным вопросам. Вдруг инструктор запнулся и, понизив голос, сказал: «Короче, читайте “Синдикат” Дины Рубиной». «Синдикат» все время переиздается, были предложения на экранизацию, но я отказала. Представила одну из сцен романа, воплощенных на экране, и поняла, что – не сейчас, и не в России…
– Вы предупредили, что не хотите вопросов о политике. Почему? Ведь вы очень политизированный человек и не скрываете своих взглядов.
Я чертовски интересуюсь текущей политикой, день начинаю с ленты новостей, но стараюсь, чтобы весь этот интерес застревал на моей собственной кухне. Пару раз редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов просил написать колонку в горячие месяцы одной из наших боевых операций. Я написала… и оказалась втянута в один из мерзких интернет-скандалов с дамой из левой партии МЕРЕЦ. Тебе пишут пафосное открытое письмо с целым букетом стилистических и грамматических ошибок, и ты, дабы не смолчать, должна писать ответ человеку, с которым в другое время и в другом месте даже не поздоровалась бы. С тех пор дала себе слово не трепать свое имя по этим помойкам.
Пару раз редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов просил написать колонку в горячие месяцы одной из наших боевых операций. Я написала… и оказалась втянута в один из мерзких интернет-скандалов с дамой из левой партии МЕРЕЦ. Тебе пишут пафосное открытое письмо с целым букетом стилистических и грамматических ошибок, и ты, дабы не смолчать, должна писать ответ человеку, с которым в другое время и в другом месте даже не поздоровалась бы. С тех пор дала себе слово не трепать свое имя по этим помойкам.
– Вас часто переводят на другие языки, однако израильский литературный истеблишмент вас не замечает. Почему это происходит?
Да все потому же: однажды мне попалась на глаза какая-то статейка, изданная в сборнике Хайфского университета. Некий молодой человек обозревал русскую литературу Израиля, выделяя меня как яркий пример представителя «расистских правых взглядов, присущих русской общине Израиля». Ну, и так далее. Все это не ново, и все это отвратительно. Литературный истеблишмент в нашей стране, как и в любой европейской стране, как и в Америке, исповедует крайне левые взгляды и является закрытой кастой.
– Читают ли вас ваши дети?
Нет, увы, когда я говорю о своих переживаниях и мыслях о прошлом, о том, «как могло бы быть, если бы…» – я, в частности, имею в виду и эту тему тоже. У них неплохой русский разговорный язык, но и только.
– И в заключение – что для вас Москва и что для вас Иерусалим, которого вы сторонитесь?
Москва – всегда город чужой (я ведь девочка из азиатской провинции), посторонний, очень интересный. Одна из самых интересных сегодня культурных столиц, если иметь в виду количество выставок, концертов, издаваемых книг… Но недели там мне бывает достаточно, я уже не могу осязать все эти гигантские пространства, начинаю скучать по дому и хочу поскорее вернуться к своему столу. А Иерусалим… Знаете, героиня одной моей повести, заметив, что окна ее съемной квартиры смотрят на холм Гиват-Шауль, где когда-нибудь она будет лежать, говорит: «Ну что ж, «похоронена в Иерусалиме» – это звучит нарядно. Это красиво, черт возьми! Это вполне карнавально».
Каста чиновников — камень, который тянет нас на дно — Журнал Интересант
Публицист Сергей Ачильдиев — о бюрократической системе, которая каждый день убивает Россию, не давая ей развиваться
21.08.17Почему из раза в раз приходится говорить о губительной роли отечественной бюрократии? Да потому, что эта система — мощный тормоз на пути развития нашей страны и благополучия каждого из нас.
Электронная почта принесла мне письмо. Приводить его полностью или хотя бы частично не буду: в нем такое засилье ненормативной лексики, что едва ли не каждая его фраза в публичном пространстве окажется грубым нарушением закона.
А смысл послания таков. Как вам не стыдно чуть не в каждой статье в «Интересанте» писать, что во всем виновато чиновничество? И куда смотрят высокие инстанции, позволяющие автору нагло очернять отечественную действительность?
Само собой, проще всего было бы воспользоваться клавишей Delete и стереть письмо не только из памяти компьютера, но и из своей собственной. Тем не менее, думаю, раз уж вопросы заданы, надо отвечать. Ведь этот неизвестный поклонник эпистолярного жанра далеко не одинок. У нас множество граждан, которые чувствуют себя глубоко обиженными, но не понимают, кем именно, а потому набрасываются на тех, кто встретился им на пути, — на режиссеров театра и кино, галеристов, художников, писателей, журналистов…
Тем не менее, думаю, раз уж вопросы заданы, надо отвечать. Ведь этот неизвестный поклонник эпистолярного жанра далеко не одинок. У нас множество граждан, которые чувствуют себя глубоко обиженными, но не понимают, кем именно, а потому набрасываются на тех, кто встретился им на пути, — на режиссеров театра и кино, галеристов, художников, писателей, журналистов…
Так что все же попробую объясниться.
По официальным данным, в федеральных и региональных структурах работают 715 тысяч 500 чиновников. Вроде не так и много, но если к ним прибавить разбухшие госкомпании, государственные казенные учреждения, счет пойдет на миллионы. О необходимости сократить чиновников разговоры идут регулярно. Совсем недавно об избыточности этой армии аргументированно говорила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.
Однако дело не только и не столько в численности чиновничьей армии, сколько в качестве ее работы. Вот всего три факта.
Деятельность регионов, как известно, жестко контролируется Москвой, но это почти никак не касается региональных чиновничьих штатов, которые раздуты местами до невозможности (например, в Орле с 2000 года они выросли в 1,6 раза). Руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев считает, что именно благодаря обилию чиновников на местах «мы имеем дело с беспрецедентным дублированием функций». Другими словами, наше чиновничество отличается не только низкой эффективностью управления, но и крайней дороговизной.
Руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев считает, что именно благодаря обилию чиновников на местах «мы имеем дело с беспрецедентным дублированием функций». Другими словами, наше чиновничество отличается не только низкой эффективностью управления, но и крайней дороговизной.
Кроме того, исполнительная власть (то самое чиновничество) уже давно подмяла под себя другие ветви власти — законодательную и судебную. И всё это к тому же усугубляется, по сути, полной безнаказанностью чиновников, занимающих более или менее значимую должность. От такого чиновника фактически требуется не наглеть и не зарываться, а также выстроить как можно более хорошие отношения со своим непосредственным начальником и сослуживцами, чтобы они не поставили тебе подножку. Российская бюрократия никак не зависит ни от общественных организаций, ни от общества в целом. Ее контролируют исключительно свои же, чиновничьи, структуры. Заведующий кафедрой политологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Василий Жарков считает нынешних российских чиновников, у которых «нет никакого контроля, ни социального, ни государственного, ни партийного», «ухудшенной карикатурой» на позднесоветскую номенклатуру.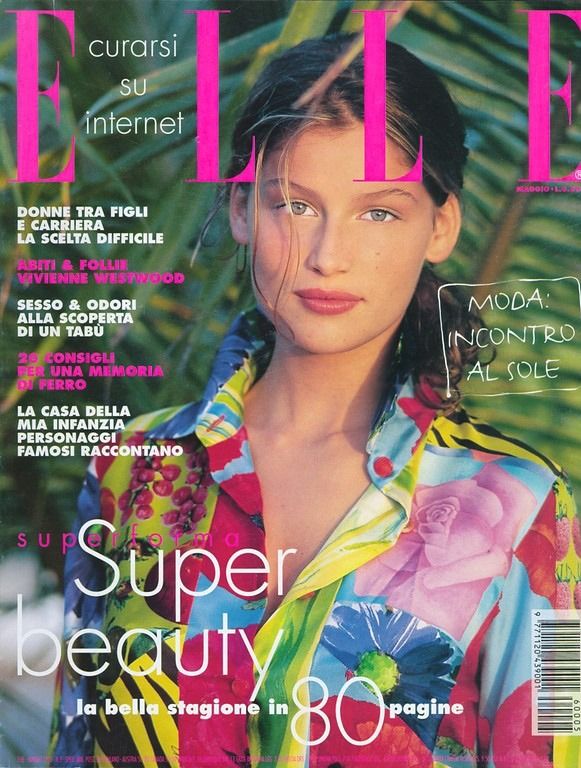
Но если вы думаете, что я сейчас буду костерить чиновников последними словами, вы ошибаетесь. Они такие же, как и мы с вами, ничем не хуже и не лучше. Более того, я знаю немало чиновников — причем разного уровня, — о которых могу сказать только хорошее: это люди умные, деловые, болеющие душой за все, что происходит в их городе и стране.
Виновата бюрократическая система. Высокая численность чиновничьего аппарата, низкий уровень ответственности и государственные деньги, которые концентрируются в руках исполнительной власти, то есть тех же чиновников, привели к тому, что эта система окуклилась и начала работать на саму себя.
Результаты не заставили себя долго ждать. Если еще в начале 2000-х годов в российской экономике соотношение государственного и частного секторов составляло 30 процентов к 70, то теперь, наоборот, 70 процентов к 30. Не так давно министр финансов Антон Силуанов признал, что «у нас более раздутая бюджетная сеть даже по сравнению с советским периодом», а по численности занятых в бюджетном секторе Россия опережает развитые страны в 1,4 раза и страны со средним уровнем развития — в 2,5 раза.
В итоге у нас резко усилился монополизм. А где монополизм, там все прелести застоя и упадка. Там неминуемое развитие коррупции: один из многих примеров — строительство космодрома «Восточный». Там постоянный рост цен: достаточно вспомнить монополистов в ЖКХ, метрополитен, железную дорогу. Там низкая конкурентоспособность и качество продукции: большинство высокотехнологичных изделий продать в экономически развитые страны не можем, зато в 2014 году ввели на внутреннем рынке Знак качества, совсем как в СССР.
Если поговорить с работниками любой сферы деятельности, они наверняка пожалуются вам на бюрократию. Преподаватели школ и вузов, медики госполиклиник и больниц расскажут ужасающие истории про то, как им приходится заполнять такую уйму отчетов и справок, что не остается ни сил, ни времени, чтобы учить и лечить. В частных компаниях вам поведают о массе проверок, которые не прекращаются, несмотря на все призывы и строжайшие запреты со стороны президента и премьер-министра (на днях был очередной такой призыв президента — снизить давление на бизнес, и понятно, что его снова проигнорируют). А вот представители малого и индивидуального бизнеса не скажут вам ничего, потому что такого бизнеса у нас почти нет, чиновники его вывели, он им просто невыгоден.
А вот представители малого и индивидуального бизнеса не скажут вам ничего, потому что такого бизнеса у нас почти нет, чиновники его вывели, он им просто невыгоден.
Свежая информация, пришедшая из Росстата в минувший четверг: в январе-июле нынешнего года реальные располагаемые доходы россиян уменьшились на 1,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. За минувшие семь месяцев ВВП страны вырос на 1,5 процента, зарплаты — на 4,6 процента, а реальные располагаемые доходы, то есть деньги, доступные для свободных трат, — снизились. Как такое может быть? А очень просто: весь этот рост зарплат на 4,6 процента сгорел в основном из-за повышения тарифов естественных монополий и наличия скрытых налогов. Иначе говоря, из-за малоэффективного менеджмента отечественной бюрократии и неразвитой (поскольку та же бюрократия постоянно убивает малый бизнес) налогооблагаемой базы.
…Система бюрократии — громадный камень, который тянет страну на дно. Эта система уже похоронила реформы последних лет — административную, судебную, среднего и высшего образования, — и точно так же тихо похоронит те реформы, которых страна ждет после выборов в будущем году.
Одолеть касту чиновников простым сокращением их численности — наивная надежда. Мы проходили такой путь многажды со времен советской индустриализации, и всякий раз у этого дракона головы отрастали вновь, да причем вместо одной прежней — две, а вместо двух — четыре. И урезание чиновничьих функций, как предлагают некоторые мои коллеги, тоже вряд ли что даст: отобранные функции недолго и вернуть.
Как говорил водопроводчик в старом анекдоте, тут не краны — систему надо менять. Не государство должно кормить народ остатками со своего стола, а народ должен кормить государство за счет своих налогов, но при этом строго контролировать, куда идет каждая копейка.
Сергей АЧИЛЬДИЕВ,
специально для интернет-журнала «Интересант»
Интернет в Индии имеет кастовую систему. Добро пожаловать «Класс Bultoo» и «Голосовая книга»
Обновлено: 06 июня 2017 г. 19:38
Facebook — отличный инструмент. Он положительно изменил миллионы жизней.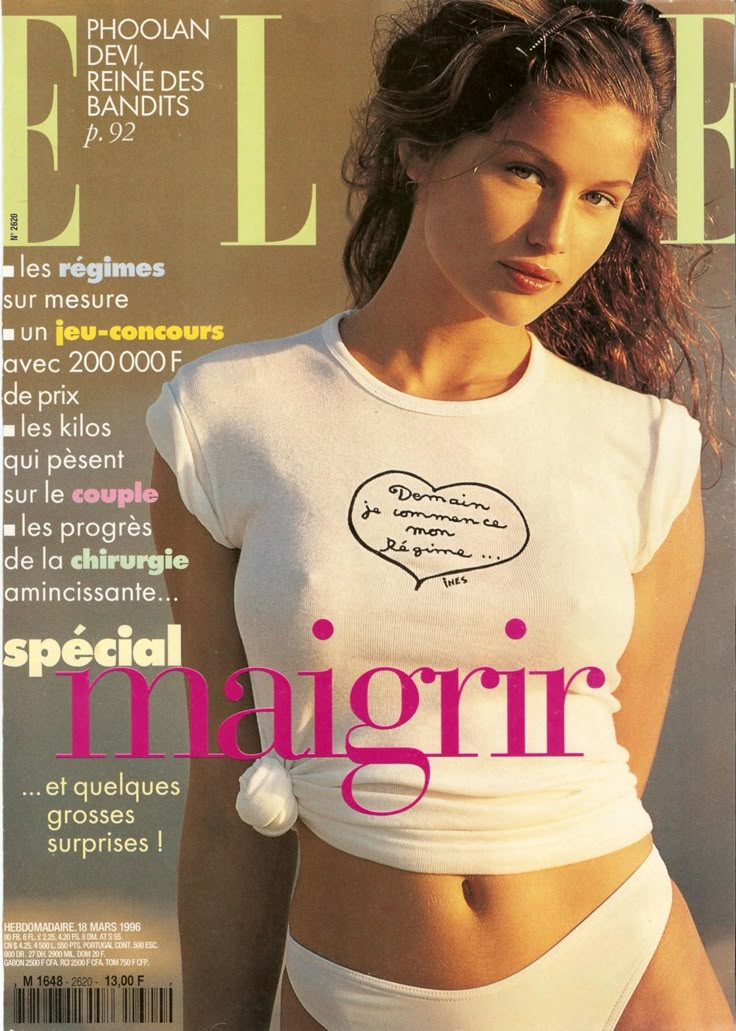 Но странам развивающегося мира, таким как Индия, вероятно, нужно что-то под названием «Голосовая книга» больше, чем Facebook. Например, в Индии у Facebook 140 миллионов подписчиков. Это около 10 процентов населения Индии, составляющего около 1,3 миллиарда человек.
Но странам развивающегося мира, таким как Индия, вероятно, нужно что-то под названием «Голосовая книга» больше, чем Facebook. Например, в Индии у Facebook 140 миллионов подписчиков. Это около 10 процентов населения Индии, составляющего около 1,3 миллиарда человек.
Facebook — это современная торговая площадка, где люди общаются, обмениваются идеями и товарами. Однако большая часть современного мира исключена из этого современного объекта.
У них есть свои торговые площадки, но они ограничены по своей природе. Можем ли мы создать для них «Голосовую книгу»?
Небольшие усилия в этом направлении предпринимаются в Центральной Индии. Он также может помочь превратить журналистику из аристократического занятия, каким она является сегодня, в демократическое. Facebook называют «социальными сетями», но как место может называться социальным, если 90 процентов населения не используют его?
Точно так же СМИ ответственны за общение. Любой, кто говорит что-либо без какой-либо перекрестной проверки, не должен называться СМИ. Но ее можно сделать ответственной демократической платформой, если мы включим выборную охрану от сообщества. Мы также должны потребовать, чтобы, если Facebook и Google называются СМИ, они должны быть ответственными платформами.
Но ее можно сделать ответственной демократической платформой, если мы включим выборную охрану от сообщества. Мы также должны потребовать, чтобы, если Facebook и Google называются СМИ, они должны быть ответственными платформами.
Согласно недавнему исследованию, 1 процент жителей Индии контролирует около 60 процентов экономики, что является отражением экономического неравенства в большинстве развивающихся стран. Таким образом, совершенно очевидно, что такие компании, как Facebook и Google, не заинтересованы в инвестициях в такие идеи, как Voicebook, которые свяжут людей у основания пирамиды, которым принадлежит очень небольшая часть экономики.
В мире массовых коммуникаций современное индийское общество можно разделить на три касты.
Сливочный слой индийцев, имеющих доступ к интернету, можно назвать «интернет-кастой». Существуют разные оценки размера этого класса. Когда Facebook говорит, что у них 14 миллионов подписчиков, мы можем с уверенностью сказать, что эта каста составляет около 10% нашего населения. Во-вторых, это «класс мобильных телефонов», у которых есть телефон, доступ к телефонным сигналам и дополнительные деньги для совершения телефонных звонков. Это самый большой класс, который может составлять от 60 до 80 процентов нашего населения, хотя в сельской местности их число меньше. Люди из этой касты часто спешат присоединиться к интернет-касте. Каста здесь не передается по наследству.
Во-вторых, это «класс мобильных телефонов», у которых есть телефон, доступ к телефонным сигналам и дополнительные деньги для совершения телефонных звонков. Это самый большой класс, который может составлять от 60 до 80 процентов нашего населения, хотя в сельской местности их число меньше. Люди из этой касты часто спешат присоединиться к интернет-касте. Каста здесь не передается по наследству.
Наконец, на третьем месте находится «каста Бултоо». У некоторых из этого сообщества есть телефоны, но они не имеют доступа к мобильным сигналам в местах своего проживания и часто не имеют денег, чтобы позвонить. Они составляют не менее 20-30 процентов нашего населения, а в деревнях их может быть больше.
Эта каста ранее относилась к категории «каста радио», у которой не было собственного голоса; они могли только слушать. Они часто делили между собой один и тот же телефон и использовали инструмент в основном как инструмент для прослушивания песен и фотографирования. Они используют технологию Bluetooth, доступную в их телефонах, для передачи аудиофайлов друг другу.
Они не могут произнести слово «блютуз», поэтому называют его «Булту».
Индия законно убила радио. Хотя мы являемся крупнейшей демократией в мире, мы не разрешаем публичное использование радио. Индия, страна с населением 1,3 миллиарда человек, имеет только одну радиостанцию, которая может передавать новости. Он ничего не транслирует на большинстве диалектов, на которых говорят в отдаленных районах.
Люди из прежней «радио касты» говорят мне: «Радио мы больше не слушаем. Он не говорит на нашем языке и говорит о каких-то Обаме и Усаме, которых мы не понимаем. Он почти не говорит ни о чем, что связано с нашей жизнью. Радио для нас мертво».
Теперь они часто используют «Bultoo». Сегодня Bluetooth является наиболее используемым средством связи в отдаленных районах Индии. Даже маленькие дети умеют передавать музыкальные файлы с одного телефона на другой. Если вы пойдете сегодня в любую отдаленную деревню в Индии, вы найдете по крайней мере полдюжины мобильных телефонов.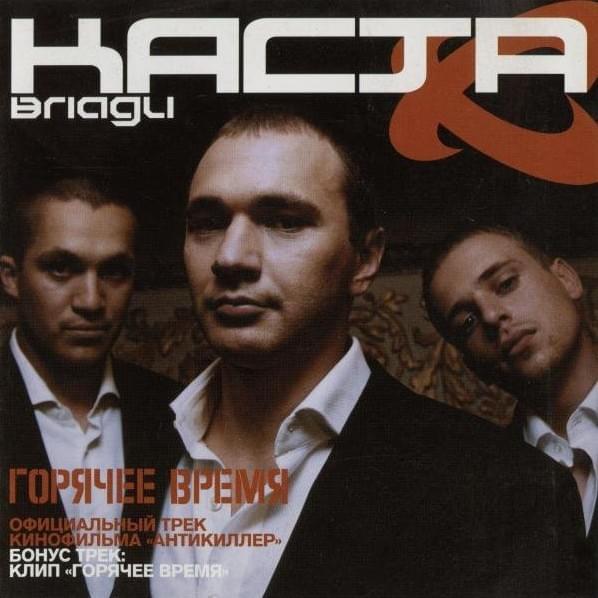 В их деревнях часто нет мобильной связи, поэтому они не могут позвонить. Мобильный телефон — это новый магнитофон и новый фотоаппарат, который помогает слушать песни и делать снимки. Когда они идут на рынок, помимо покупки и продажи, они также посещают «центр загрузки» и покупают несколько песен, которыми затем бесплатно делятся друг с другом с помощью Bluetooth.
В их деревнях часто нет мобильной связи, поэтому они не могут позвонить. Мобильный телефон — это новый магнитофон и новый фотоаппарат, который помогает слушать песни и делать снимки. Когда они идут на рынок, помимо покупки и продажи, они также посещают «центр загрузки» и покупают несколько песен, которыми затем бесплатно делятся друг с другом с помощью Bluetooth.
Эксперимент для демократических СМИ в Центральной Индии использует этот шаблон для разработки «Bultoo Radio» или «Voicebook» в дополнение к обычному радио в отдаленных районах. Это новое радио демократично. Люди идут к месту, где доступен мобильный сигнал, чтобы записать свои песни и сообщения на сервер (компьютер, подключенный к Интернету, и телефон с программным обеспечением интерактивного диктофона). Обученная команда редакторов из одного и того же сообщества составляет радиопрограмму из одних и тех же песен и сообщений на их родных языках на своих компьютерах, сидя в любом месте в Интернете. Когда программа будет готова, ее можно скачать, позвонив по тому же номеру сервера. Если у человека есть подключение к Интернету, что редко встречается в отдаленных районах, он может получить радиопрограмму с помощью таких инструментов, как WhatsApp. Если у них нет интернета, они скачивают аудио и записывают его на свои мобильные телефоны.
Если у человека есть подключение к Интернету, что редко встречается в отдаленных районах, он может получить радиопрограмму с помощью таких инструментов, как WhatsApp. Если у них нет интернета, они скачивают аудио и записывают его на свои мобильные телефоны.
Как только радио станет доступно в виде аудиофайла, этот поставщик средств массовой информации для сообщества (CMV) ходит по домам в своем сообществе и доставляет «Bultoo Radio» на телефон каждого клиента. Программу можно слушать и распространять столько раз, сколько захочется. Программы ведутся на местном языке местными жителями и поднимают местные проблемы. Это УТП.
Когда CMV доставляет радио Bultoo, она также собирает некоторые товары, которые клиент хочет продать на городских рынках. Поскольку они не связаны с телефонами, люди из касты Бултоо продавали те же товары на местных рынках по более низкой цене, чем раньше. CMV корректирует стоимость магнитолы Bultoo в цене за собранный товар. Собранные товары часто представляют собой продукты органического сельского хозяйства или лесной продукции, пользующиеся спросом на городских рынках. Иногда они также могут быть произведениями искусства и другими подобными сельскими артефактами. Этот бизнес теперь помогает коммуникационной платформе, которая помогла самому бизнесу начаться в первую очередь. Раньше не было цепочки поставок товаров из-за отсутствия связи.
Иногда они также могут быть произведениями искусства и другими подобными сельскими артефактами. Этот бизнес теперь помогает коммуникационной платформе, которая помогла самому бизнесу начаться в первую очередь. Раньше не было цепочки поставок товаров из-за отсутствия связи.
Производителю новостей в этой системе не платят за производство новостей. Коммуникационная платформа должна быть максимально зависима от экономики тех же людей, для которых она работает, чтобы оставаться независимой.
Когда у вас есть критическая масса радиостанций Bultoo, которые также называются VoiceBooks, тогда вы можете заняться журналистикой данных, чтобы увидеть «популярные» новости. Это может стать основой для репрезентативных новостей, в отличие от нынешней аристократической модели основных СМИ. Это будет репрезентативно, в отличие от социальных сетей в Интернете, которые охватывают незначительное меньшинство. В отличие от Facebook, похожего на торговую площадку, где каждый может сказать что угодно, за этой коммуникационной платформой могут следить избранные представители (называемые Jodkars ) от сообщества, чтобы сделать его платформой для ответственной журналистики.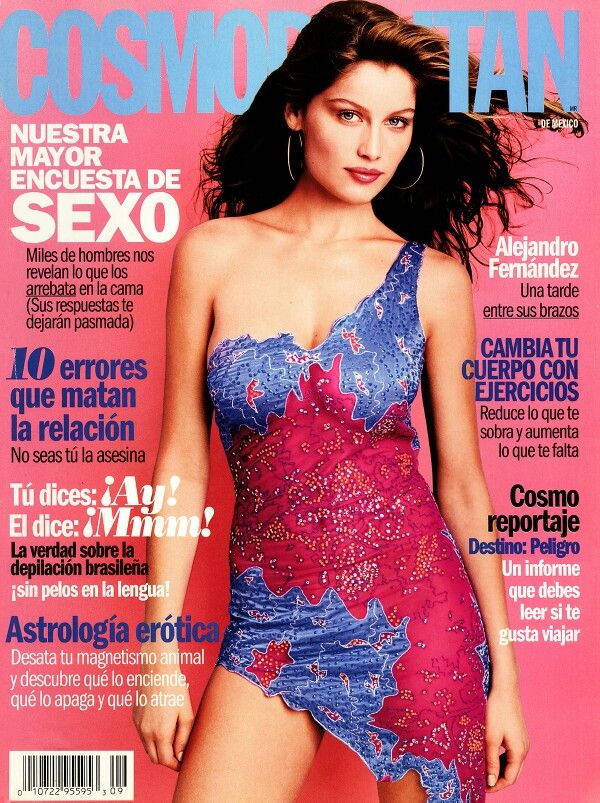
Это эксперимент, который показывает, что Интернет, мобильные телефоны и Bultoo могут вместе создавать бесплатные медиа.
- Предыдущая история Что женщинам больше всего нравится и не нравится в мужчинах
- Следующая история Вощение сапфической нежно
Быть привилегированным — Индус
Итак, Ласточка пролетела над великим городом и увидела, как богатые веселятся в своих красивых домах, а нищие сидят у ворот. Он влетел в темные переулки и увидел белые лица голодающих детей, апатично смотрящих на черные улицы.
― Оскар Уайльд, «Счастливый принц».
Одним из известных интернет-мемов среди индийцев является карикатура, изображающая тучного мужчину, сидящего на диване и принимающего огромную порцию (скудной) питьевой воды, в то время как истощенный мужчина сидит впереди на полу и ждет, когда упадут капли.![]() Первый, согласно мультфильму, — «SC/ST», а второй — «Генерал». Затем мультфильм просит нас «поделиться, если вы (так в оригинале) ненавидите эту систему». Этого одного образа из популярной культуры, вероятно, достаточно, чтобы объяснить нам, почему далиты, такие как Рохит Вемула, совершают самоубийство.
Первый, согласно мультфильму, — «SC/ST», а второй — «Генерал». Затем мультфильм просит нас «поделиться, если вы (так в оригинале) ненавидите эту систему». Этого одного образа из популярной культуры, вероятно, достаточно, чтобы объяснить нам, почему далиты, такие как Рохит Вемула, совершают самоубийство.
Этот мультфильм демонстрирует удивительный акт колдовства, в котором привилегированные/доминирующие/угнетающие группы превращаются в жертв. Только магия может позволить нам понять параметры справедливости и равноправия, используемые для поразительного приравнивания индуистских высших каст, насчитывающих лишь 15-20 процентов населения, к жертвам, когда 50 процентов государственных должностей/мест в учебных заведениях все еще открыты для них. их.
Если господствующее кастовое общество способно на такие фантастические подвиги, то удивительно ли, что реакция высшей касты на самоубийство Вемулы было массовым отрицанием этого как кастовой проблемы, или уродливые попытки теперь отрицать принадлежность Вемулы к далиту? Они варьируются от членов кабинета министров Союза до видных телеведущих, определяющих повестку дня (которые после страстных речей от имени Вемулы продолжают столь же драматические монологи о том, что это не имеет ничего общего с кастами), до писателей, которые психологизируют это как случай. депрессии, и язвительные ответы непрофессиональных читателей из высших каст в Интернете, которые быстро и предсказуемо вырождаются в насмешливую сдержанность.
депрессии, и язвительные ответы непрофессиональных читателей из высших каст в Интернете, которые быстро и предсказуемо вырождаются в насмешливую сдержанность.
Когда нынешнее правительство задействует государственную машину — таким образом Бюро разведки готовит отчет о кастовом статусе Вемулы — чтобы отрицать достоинство жизни и смерти человека, мы живем в смутные времена. Самый эффективный способ отрицать кастовое угнетение — бюрократизировать смерти далитов и запутать их в своде правил кастовых сертификатов. Слова Вемулы в его предсмертной записке теперь звучат громче: «Ценность человека сводилась… к голосованию. К номеру. К вещи.
Несмотря на отвратительные попытки правительства, самая большая медвежья услуга для понимания отрицания касты состоит в том, чтобы рассматривать его как просто программу индуизма, которая навязывает ложное единство кастово-разделенному индуистскому обществу. Даже многие прогрессивные представители высших каст рассматривают самоубийство вемулы как «проблему далитов», которую необходимо решить с помощью паллиативных административных мер, принимаемых на университетском уровне.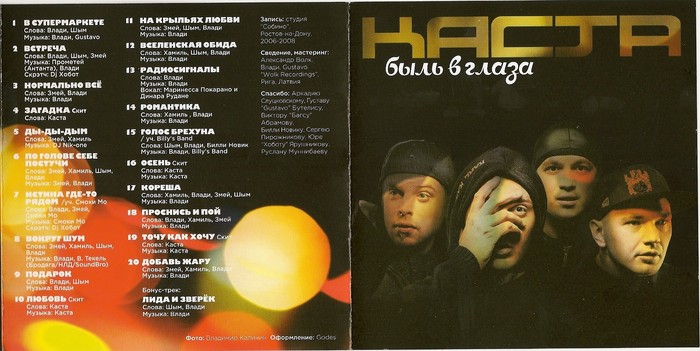 Едва ли кто-то признает, что университет — это просто подмножество более крупного общества, организованного идеологически и материально на кастовой основе, независимо от политической и религиозной принадлежности. И без структурной реорганизации последнего путем уничтожения каст из всех слоев общества любые реформы университетских городков будут бесполезны.
Едва ли кто-то признает, что университет — это просто подмножество более крупного общества, организованного идеологически и материально на кастовой основе, независимо от политической и религиозной принадлежности. И без структурной реорганизации последнего путем уничтожения каст из всех слоев общества любые реформы университетских городков будут бесполезны.
Важно отметить, что нет признания, что проблема в «нас» — меньшинстве высших каст, которые контролируют практически все общество. Таким образом, настало время переключить прожектор с далитов (преобразование «их») и на высшие касты (преобразование «себя»), которые сознательно или неосознанно увековечивают кастовое угнетение, не признавая кастовых привилегий. Такие понятия, как «заслуги», упомянутые в упомянутой выше карикатуре, становятся простой дымовой завесой, скрывающей привилегии — социальный, экономический и культурный капитал, накопленный веками.
Конечно, привилегия не ограничивается кастой, но также относится к классу, полу, расе, сексуальности и т. д. W.E.B. Дюбуа, афроамериканский активист и ученый, выдвинул теорию о «психологической плате» за белизну в Америке: даже экономически бедный белый человек чувствует свое превосходство над чернокожими в обществе, где доминируют белые (подобно тому, как Амбедкар назвал кастовую систему неприемлемой). просто разделение труда, но и разделение труда).
д. W.E.B. Дюбуа, афроамериканский активист и ученый, выдвинул теорию о «психологической плате» за белизну в Америке: даже экономически бедный белый человек чувствует свое превосходство над чернокожими в обществе, где доминируют белые (подобно тому, как Амбедкар назвал кастовую систему неприемлемой). просто разделение труда, но и разделение труда).
Колоссальный отказ признать психологическую плату за касты, достающуюся высшим кастам из-за их подавляющего господства во всех сферах общества, за исключением, до некоторой степени, политики и государственных институтов, где есть оговорки (все еще 40-50 на человека). процентов преподавательских должностей SC/ST в центральных и государственных университетах) и ошеломляющее отсутствие далитов там, где нет резервации, такой как могущественный частный и корпоративный сектор, англоязычные СМИ, крикет, Болливуд и коммерческая культура, для пример. Это непризнание является самым большим препятствием на пути уничтожения каст в обществе, что также приводит к менталитету виктимизации высших каст.
Почему привилегия не подтверждена? Как убедить, например, моего друга/собеседника, происходящего из элитной касты и класса, окончившего лучший университет в мире, работающего на высокой государственной должности и считающего, что Вемула (работавший чернорабочим когда-то и был воспитан матерью-далитом, которая фактически работала ребенком в собственном приемном доме) самоубийство не имело ничего общего с кастовым угнетением? Делают ли привилегии нас слепыми к социальным обстоятельствам других?
Опять же, непризнание привилегии не зависит от касты. Недавнее исследование, проведенное в Америке Л. Тейлором Филлипсом и Брайаном Лоури, предполагает, что белые, сталкиваясь с доказательствами белых расовых привилегий, даже если они не отрицают этого, утверждали, что они не извлекают из этого выгоды из-за личных барьеров. Почему это происходит? По словам Лоури, «вы любите красивые вещи. Но вы не хотите думать, что получили эти вещи в результате незаработанных преимуществ».
Это ошибочное понимание заслуг, наряду с сознательными попытками сохранить кастовое господство, лежит в основе отрицания кастовых привилегий. Конечно, привилегии высших каст не исключают тех слоев высших каст, которые экономически неблагополучны, или тех, кто имеет благие намерения уничтожить кастовые привилегии. Но, как выразилась Пегги Макинтош, антирасовая и феминистская активистка: «Меня учили видеть расизм только в отдельных актах подлости, а не в невидимых системах, предоставляющих доминирование моей группе».
Конечно, привилегии высших каст не исключают тех слоев высших каст, которые экономически неблагополучны, или тех, кто имеет благие намерения уничтожить кастовые привилегии. Но, как выразилась Пегги Макинтош, антирасовая и феминистская активистка: «Меня учили видеть расизм только в отдельных актах подлости, а не в невидимых системах, предоставляющих доминирование моей группе».
Недостающее важное признание заключается в том, что кастовое угнетение носит системный характер (и более коварно, чем другие виды угнетения, из-за религиозной санкции, которой оно пользуется), и что каждый из нас, привилегированный, участвует в нем посредством многих незаслуженных благ, дарованных нам рождением. . Здесь индивидуальный характер не критичен. Когда Макинтош приходит к резкому осознанию того, что можно быть милым и в то же время деспотичным. Эта неудобная истина бросается в глаза, когда мы сталкиваемся с кастовыми привилегиями.
Таким образом, первым шагом в противостоянии касте является признание привилегий высшей касты, часто подкрепляемых классовыми привилегиями. Что срочно необходимо, так это исчерпывающий отчет о привилегиях высшей касты, такой как новаторское эссе Макинтош 1988 года «Привилегии белых и привилегии мужчин: личный отчет о просмотре корреспонденции через работу в женских исследованиях», где она документирует более 50 белые привилегии. Эти утверждения особенно актуальны в контексте самоубийств студентов-далитов: «Я могу быть уверен, что учителя и работодатели моих детей будут терпеть их, если они соответствуют школьным и рабочим нормам» и «Я могу устроиться на работу к работодателю позитивных действий, не имея мои коллеги по работе подозревают, что я заболел из-за своей расы».
Что срочно необходимо, так это исчерпывающий отчет о привилегиях высшей касты, такой как новаторское эссе Макинтош 1988 года «Привилегии белых и привилегии мужчин: личный отчет о просмотре корреспонденции через работу в женских исследованиях», где она документирует более 50 белые привилегии. Эти утверждения особенно актуальны в контексте самоубийств студентов-далитов: «Я могу быть уверен, что учителя и работодатели моих детей будут терпеть их, если они соответствуют школьным и рабочим нормам» и «Я могу устроиться на работу к работодателю позитивных действий, не имея мои коллеги по работе подозревают, что я заболел из-за своей расы».
Если признание кастовых привилегий, первый шаг, может само по себе свести на нет представление о себе как о «достойном» человеке из высшей касты, то второй шаг более мучителен. Признание привилегий бессмысленно, если оно не влечет за собой отказа от привилегий. Вот где настоящая битва за уничтожение касты. Угроза существующим материальным привилегиям высших каст приводит даже к некоторой демократизации за счет оговорок в образовании и занятости, вызывая ужасную негативную реакцию высших каст.