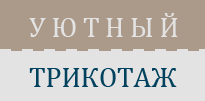Бегемоты и дервиши — Журнальный зал
Спелой грушею в бурю слететь Об одном безраздельном листе. Как он предан — расстался с суком — Сумасброд — задохнется в сухом! Б. Пастернак. «Определение души» |
Пауль Шеербарт. Собрание стихотворений. С приложением эссе Йоханнеса Баадера и Вальтера Беньямина. Перевод с немецкого, предисловие и комментарии И. Китупа. М., «Гилея», 2012, 204 стр.
Теодор Крамер. Зеленый дом. Избранные стихотворения. Перевод с немецкого Е. Витковского. М., «Водолей», 2012, 160 стр

Казалось бы, уже юбилеи справляли, как пал железный занавес советской цен-зуры, есть для переводов все возможности, от работы в архивах страны языка-оригинала до грантов страны этого же самого языка, а какие-то писатели приходят к нам с таким опозданием, будто по московским пробкам в час пик добирались. Но вошли в недавние годы в дом русского языка (привет Хайдеггеру!) Целан[4], Бенн и Рильке (с непереведенным дотоле), за ними, что особенно радостно, те, кого несколько криво называют «поэтами второй величины»[5] (определение, явно не обладающее астрономической точностью, — кощунствуя, я могу допустить, что стихи Веры Полозковой могут дать больше не чувства, но ощущения поэзии «девочкам, живущим в Сети», чем стихи Пушкина).
Тезка Целана
немец Шеербарт (1863 — 1915) — именно из таких, «второрядных».

 Я не могу
найти биографическо-фактических улик, но тот же «Гелиополь» Юнгера — не читал
ли германский визионер своего собрата? Если не фантастику, то один из его
романов, которые сам Шеербарт именовал
«железнодорожными», «хвастливыми», «бегемотными», «дамскими» и т. д.? Ко всему
этому разношерстью можно добавить, что умер писатель самым буквальным образом у
мусорного бака (то ли инсульт, то ли антимилитаристская голодовка) и да, писал
стихи. Жаль, конечно, что до переводов прозы Шеербарта дело еще не дошло, ведь
в стихах он чаще всего валял дурака — впрочем, как мы увидим, делал он это, не
только ссылаясь на существующую традицию (библейскую, юродства), но и зачиная
традицию новую (рокеров-фриков-панков).
Я не могу
найти биографическо-фактических улик, но тот же «Гелиополь» Юнгера — не читал
ли германский визионер своего собрата? Если не фантастику, то один из его
романов, которые сам Шеербарт именовал
«железнодорожными», «хвастливыми», «бегемотными», «дамскими» и т. д.? Ко всему
этому разношерстью можно добавить, что умер писатель самым буквальным образом у
мусорного бака (то ли инсульт, то ли антимилитаристская голодовка) и да, писал
стихи. Жаль, конечно, что до переводов прозы Шеербарта дело еще не дошло, ведь
в стихах он чаще всего валял дурака — впрочем, как мы увидим, делал он это, не
только ссылаясь на существующую традицию (библейскую, юродства), но и зачиная
традицию новую (рокеров-фриков-панков).И отнюдь не так просты эти вроде бы
легкомысленные и небольшие стихи. В них
вполне логично сопрягаются ориенталистские темы (много стилизаций вроде
«Причитания поэта Сафура», «Надгробная надпись, сочиненная Абу-Нувасом» и т. п.) с гедонистическими («Набить живот, чтоб был он толстый, — / Важнейшее из
удовольствий»), а точней, что уж греха таить, бахустическими (самый большой
сборник из представленных в книге — «Похмельные стихи»). «С добрым утром, человеческий
зверушка! / Хитрожопый уже хлопнул пива кружку» — лирический (ой, столь ли лирический?)
герой Шеербарта будто сейчас шагнет если не в пьесу Брехта, то в фильм
Каурисмяки или Фассбиндера, а саундтреком к нему будут похмельные эскапады Тома
Уэйтса и The Pogues.
п.) с гедонистическими («Набить живот, чтоб был он толстый, — / Важнейшее из
удовольствий»), а точней, что уж греха таить, бахустическими (самый большой
сборник из представленных в книге — «Похмельные стихи»). «С добрым утром, человеческий
зверушка! / Хитрожопый уже хлопнул пива кружку» — лирический (ой, столь ли лирический?)
герой Шеербарта будто сейчас шагнет если не в пьесу Брехта, то в фильм
Каурисмяки или Фассбиндера, а саундтреком к нему будут похмельные эскапады Тома
Уэйтса и The Pogues.
Не менее логично для внутреннего развития Шеербарта звучит и его излюбленная космическая тема, поданная иногда то едва ли не в духе голливудской космической стрелялки:
Как это случилось?
В небесах колебались
Огромные и блестящие диски —
На дисках вращались орехи кроваво-червленые,
Но некий злокозненный дух
разнес их все вдребезги.
А ангел над этим в сердцах расхохотался
И спрыснул все витриолью —
Не более.
То как заведомое космическое обещание, завет далекой радости:
Ведь лун (на Сатурне. — А. Ч.) там больше — целых девять штук!
Там каждый радуется за девятерых,
Яйцо варёное там, вероятно,
Вкусней десятикратно…
Герой Шеербарта и со своей космической
мечтой, впрочем, обходится по-свойски, придуриваясь, по-бахтински профанируя и
по-рок-н-ролльному мечтая обзавестись «длиннющим черным шлейфом» кометы, стать
«кометой-фраком». Думается, сценические наряды и образ упавшего с Марса
пришельца в изображении Дэвида Боуи пришелся б Паулю Шеербарту по сердцу.
Сравнения с роком
могут уже показаться навязчивыми, но они почти неизбежны для современного
читателя этой лирики, особенно тогда, когда речь заходит о не самом банальном
сочетании тем — тотальной мизантропии и возвышенной натурфилософии. Моральный
закон внутри нас, по Шеербарту, настолько девальвировался, что осталось
единственное — звездное небо над нами. И эту тему он развертывает с той силой
злой негации, что была в поэзии (не говоря о выступлениях!) Егора Летова.
Образность уж, во всяком случае, та самая, самого крутого психоделического
замеса. Ему видится «невидимая мышь» и «лунный шарик», он, будто со сцены или
даже с трибуны, призывает: «Прикончи Европейца! / Прикончь его! / Прикончь его!
Прикончь его! / Прикончь его вконец!!» [8] В людях не
обнаруживается решительно ничего достойного — «ты <…> навоза полон»,
«только недочеловеки — / Те, кого бы я поджарил, — / Ежедневно мир мой гробят. / Всё без разницы. До встречи! / Будь свободным, человече!». В общем, люди лишь
«гнусно злословят и поносно ругаются», «Земле — позор!», а «миру этому хана —
ей-ей!».
/ Всё без разницы. До встречи! / Будь свободным, человече!». В общем, люди лишь
«гнусно злословят и поносно ругаются», «Земле — позор!», а «миру этому хана —
ей-ей!».
Но на смену Летову приходит буквально-таки гетевская натурфилософия, поэзии Шеербарта сообщаются чуть ли не интонации державинских величественных од:
Когда-то был лучом я света
И проницал красоты мира,
Нырял и тут, и там, и где-то
В моря эфира.
Это, конечно, бегство от мира и принятие далекого, эскапистского зова звезд:
Мы кружимся блаженно, обреченно,
Несемся сквозь космическую даль.
Мы весело летим и оживленно,
И нет тоски — нам ничего не жаль…
Моменты прорывающегося пафоса у Шеербарта редки на фоне его обычного скоморошества (Державин в ремиксе Пригова), он быстро спохватывается, кричит кикиморой:
Я кое-где бывал…
В пустыню вот забрел однажды далеко.
Я без рубахи там шагал, а также башмаков.
<…>
А зелень звездная вилась со свистом вкруг
Моих расставленных обеих рук —
Похожая на сдутые воздушные шары.
Ведь Шеербарт шагает этаким юродивым,
«бредет сквозь дни, слегка навеселе, / Он пропил как свою, так и чужую боль — /
И волен быть блаженным на земле». Он кружится дервишем посреди круговорота
планет: «и так всё потерял — кому тебя обидеть?», свободный от всех и всего,
включая смерть: «…тебя от пут освободила смерть!» Он «становится, как дети»:
«…я тоже хохотал, ребенку вторя эхом, — мы хохотали оба, глядя на голубоватые
огни». И тут даже снимается панковская негация Правду говорят, что
пьяный, что малый…
Правду говорят, что
пьяный, что малый…
С австрийцем Теодором Крамером (1897 —
1958) ситуация в нашей стране чуть лучше — в Советском Союзе его даже слегка
печатали (ненавидевший фашистов, Крамер прославлял победы над ними), в начале
90-х Крамера переводил и популяризовал Евгений Витковский[10], а на эту книгу мне
встретилась даже одна рецензия[11].
Однако, на родине и вообще по большому счету Крамеру повезло гораздо меньше —
современники хоть и ставили его в один гордый ряд с Траклем и Рильке, но Крамер
до сих пор издан далеко не полностью. Биография отчасти схожа с шеербартовской
— родился Крамер в семье простого врача (но еврея, что в те австрийские дни
означало понятно что — первую книгу Крамера нацисты приговорили к сожжению еще
до ее выхода!), среднее образование получил в Вене, но с образованием и
карьерой скоро закончил. Помешали война (его призвали) и стихи. Не война ли на
Восточном фронте и военные скитания через всю Австро-Венгрию, кстати, повлияли
на то, что Крамер выбрал форму народной баллады, которую обогатил еще какими
только ни наречиями его обширной и вскорости сгинувшей родины — он активно
использовал хорватский, каринтийский, играл со специфически венской лексикой[12]…
Поднабраться диалектов «помогла» его полумаргинальная жизнь — работал то в
книжном, то сторожем, то разнорабочим, а то и вовсе бродяжничал. Ему вообще
как-то сильно не везло в жизни: когда его с большими хлопотами (вовсю ходатайствовал
Томас Манн) удалось утащить из уже почти захлопнувшегося железного нацистского
капкана в Англию, там англичане, боясь всех «понаехавших», кинули его в лагерь
на остров Мэн… Впрочем, таков был пресс той эпохи, что покончил с собой не
только почти сбежавший от немцев Беньямин, но и вполне благополучно в Париже
уже два десятилетия спустя после войны существовавший Целан… Вот и Крамер, осев
в Англии, три раза оказывался в больнице с черной депрессией… Несмотря на все
это, положил себе писать каждый день — поэзия была для него даже не дневником,
но формой отчета, оправданием своей жизни, в которой кроме какой-то мимоходной
работы и одиночества больше ничего и не было.
Помешали война (его призвали) и стихи. Не война ли на
Восточном фронте и военные скитания через всю Австро-Венгрию, кстати, повлияли
на то, что Крамер выбрал форму народной баллады, которую обогатил еще какими
только ни наречиями его обширной и вскорости сгинувшей родины — он активно
использовал хорватский, каринтийский, играл со специфически венской лексикой[12]…
Поднабраться диалектов «помогла» его полумаргинальная жизнь — работал то в
книжном, то сторожем, то разнорабочим, а то и вовсе бродяжничал. Ему вообще
как-то сильно не везло в жизни: когда его с большими хлопотами (вовсю ходатайствовал
Томас Манн) удалось утащить из уже почти захлопнувшегося железного нацистского
капкана в Англию, там англичане, боясь всех «понаехавших», кинули его в лагерь
на остров Мэн… Впрочем, таков был пресс той эпохи, что покончил с собой не
только почти сбежавший от немцев Беньямин, но и вполне благополучно в Париже
уже два десятилетия спустя после войны существовавший Целан… Вот и Крамер, осев
в Англии, три раза оказывался в больнице с черной депрессией… Несмотря на все
это, положил себе писать каждый день — поэзия была для него даже не дневником,
но формой отчета, оправданием своей жизни, в которой кроме какой-то мимоходной
работы и одиночества больше ничего и не было. В Австрии наконец-то вспомнили,
что был, есть такой поэт, и что Австрия ему вообще-то задолжала, пригласили в
1957 году, дали бесплатное жилье, пенсию. Крамер вернулся, но, как оказалось,
лишь умереть. После смерти (несмотря на то, что Крамера восхваляли не только
Томас Манн, но и Канетти с Цвейгом) наступило забвение. Вот разве что уже в
наши дни Ханс-Экардт Венцель (тема рок-музыки возникает уже сама) записал два
альбома на стихи Крамера…
В Австрии наконец-то вспомнили,
что был, есть такой поэт, и что Австрия ему вообще-то задолжала, пригласили в
1957 году, дали бесплатное жилье, пенсию. Крамер вернулся, но, как оказалось,
лишь умереть. После смерти (несмотря на то, что Крамера восхваляли не только
Томас Манн, но и Канетти с Цвейгом) наступило забвение. Вот разве что уже в
наши дни Ханс-Экардт Венцель (тема рок-музыки возникает уже сама) записал два
альбома на стихи Крамера…
На первый отечественный взгляд бродяга Крамер («нигде не задержусь я доле, / чем стоит на пожне колосок») моментально прочитывается как такой щемящий певец покинутых деревень («звезды, вестники долгой морозной погоды, / озирали озимых убитые всходы»), австрийский Есенин. Тем более что и винной темы Крамер отнюдь не чужд: «лишь винцо шибает в пятки / хмелем затхлой кислецы»; «сойдется в десять цвет пивнух, / в гортань ползет коньячный дух; / товар панельный в сборе весь»; «бредет домушник и, журча, / течет пьянчужечья моча: / о Боже»; сборник 1946 года с непритязательным названием «Погребок»…
Но тематика
Крамера не только разнообразней (его «Трясинами встречала нас Волынь…» и
одноименный сборник — почти хрестоматийные стихи о той войне), но имеет как бы
два вектора — социальный и экзистенциальный. А Крамер безусловно социален, он
поэт городского, да и всяческого дна («нас город не любит, нас гонит село»).
Интонации варьируются и здесь, но все они (до боли) знакомы: то чуть ли не
шансон («пусть нынче из барака / я вышел бы, однако / с тобою бы не смог /
сейчас остаться рядом…»), то Некрасов с Горьким[13] («измотан
морозом и долгой ходьбой, / старик огляделся вокруг, / подвинул решетку над
сточной трубой / и медленно втиснулся в люк»), то достоевские бедные люди,
забритые в солдаты, целуют ноги шлюх, а те утешают и сами платят солдатам
(«буду ласкать его, семя покорно приму, — / пусть он заплачет и пусть полегчает
ему. // к сердцу прижму его, словно бы горя и нету, / тихо заснет он, — а утром
уйду я до свету…»).
А Крамер безусловно социален, он
поэт городского, да и всяческого дна («нас город не любит, нас гонит село»).
Интонации варьируются и здесь, но все они (до боли) знакомы: то чуть ли не
шансон («пусть нынче из барака / я вышел бы, однако / с тобою бы не смог /
сейчас остаться рядом…»), то Некрасов с Горьким[13] («измотан
морозом и долгой ходьбой, / старик огляделся вокруг, / подвинул решетку над
сточной трубой / и медленно втиснулся в люк»), то достоевские бедные люди,
забритые в солдаты, целуют ноги шлюх, а те утешают и сами платят солдатам
(«буду ласкать его, семя покорно приму, — / пусть он заплачет и пусть полегчает
ему. // к сердцу прижму его, словно бы горя и нету, / тихо заснет он, — а утром
уйду я до свету…»).
Однако всеприятие на социальное не
распространяется, как и у Шеербарта, мир достоин у Крамера лишь самой смачной
диатрибы: «только голод в глазах пламенел, как клеймо; / им никто не помог, —
лишь копилось дерьмо»; энтропия тотальна («и гармоника вздохи лила в темноту, /
загнивали посевы, и гвозди ржавели»). Утешит, как у Шеербарта, лишь алкоголь
(ненадолго):
Утешит, как у Шеербарта, лишь алкоголь
(ненадолго):
Сходил в трактир с кувшином — и довольно,
чтоб на часок угомонить хандру:
хлебнешь немного — и вздыхать не больно
сырой осенний воздух ввечеру.
Но «песня в пыль,
во мрак / черной кровью хлещет изо рта» (крамеровская образность зачастую
поднимается до высокого дурновкусия Бабеля, сражавшегося в своей Первой Конной
по другую сторону линии фронта в тех же волынских лесах[14]) дальше.
От отвращения к земной юдоли — принятие, то, которое возвышает. «Чуток будь к
земному чуду!» — призывает Крамер, замечая, что «память о добре вчерашнем /
дорога равно повсюду / и созвездиям, и пашням», что знаменует взгляд — сверху.
Герой Крамера изгнан человечеством, но его приветила Вселенная, где он и
укоренен. Земное оставляет, оно лишь повод, служение чему-то более важному:
Земное оставляет, оно лишь повод, служение чему-то более важному:
Порой, уморившись дневной суматохой,
закат разглядев в отворенном окне,
он смешивал известь с коровьей лепехой
и, взяв мастихин, рисовал на стене:
на ней возникали поля, перелески,
песчаная дюна, пригорок, скирда, —
и начисто тут же выскабливал фрески,
стараясь, чтоб не было даже следа
Он сподобился мудрости — «тем кровь моя зрелее, как вино» (натурфилософия возогнана из алкогольного, заметим). «Изначальность приходит к земле», а он идет, наблюдая, сторонний, как дервиш[15]. Ему, в отличие от Шеербарта, уже даже не надо учиться у детей:
Я никогда не ускоряю шаг,
не забредаю дважды никуда;
мне все одно — ребенок и батрак,
кустарник, и булыжник, и
звезда.
Про нравственный закон не совсем понятно, но кантовские звезды никто не смог отменить — на них смотрят пропойца и ребенок, единое.
Александр ЧАНЦЕВ
[4] Из совсем недавних переводов можно вспомнить перевод Анны Глазовой: Целан Пауль. Говори и ты. Составление, перевод с немецкого и комментарии Анны Глазовой. New York, «Ailuros Publishing», 2012.
[5] У «Гилеи», издавшей Шеербарта, в этом плане очень хорошие намерения и по отношению к отечественным «неперворядникам»: среди «готовящихся к изданию» упомянуты Илязд, Ю. Марр, Т. Чурилин…
[6] Не совсем забыт он и в наши цифровые дни — сделали же ему довольно информативный и содержательный сайт scheerbart.de.
[7]
Стоит только перечитать на этот предмет выходившие у нас беньяминовские «Маски
времени».
[8] Доходит даже до текстуальных совпадений — «Скок! Скок! Скок» Шеербарта («Скок! Скок! Скок! Чудесная лошадка! / Скок! Скок! Скок! Куда ты держишь путь? / Махнешь ли ненароком через забор высокий? / Иль что-нибудь другое измыслишь как-нибудь?») — это по сути самый известный зонг Летова и «Гражданской обороны» «Прыг-Скок» в миниатюре.
[9] «Абсолют и есть эта точка самоотождествления. Но, повторю, чтобы она возникла, должна вначале произойти негация. Абсолют возникает как результат, как момент остановки негации, так как должна, в конце концов, появиться точка опоры». Конев В. Дантовы координаты как координаты культурного пространства. — «Топос», № 1, 2011, стр. 102.
[10] Кроме нескольких подборок, выходил целый сборник — «Для тех, кто не споет о себе. Избранные стихотворения» (СПб., «Дидактика Плюс», 1997).
[11] Семенова Е. Ну, щеточник, еще рюмашку
тминной! — «НГ Ex libris», 2012, 6
сентября.
Ну, щеточник, еще рюмашку
тминной! — «НГ Ex libris», 2012, 6
сентября.
[12] Сейчас немецкие издания Крамера сопровождаются даже вокабулярами — не у каждого немца на слуху диалектизмы (венское «трафикант» — «торговец сигаретами»), англицизмами («блэкаут»), профессиональная лексика и прочие нахватанные им в жизни редкости («парадайзер» — сорт помидоров)…
[13] Крамеровские герои «болеют в меблирашках» и додумались даже до того, чтобы сдавать собутыльникам в кабаке зимнее пальто напрокат.
[14]
«Тихая Волынь изгибается, Волынь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ,
она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в зарослях
хмеля. Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова, нежный свет
загорается в ущельях туч, штандарты заката веют над нашими головами. Запах
вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу» («Переход через
Збруч»).
[15] «Дервиш», например, в казахском языке изначально и переводился длинно, но точно — «странствующий бедняк, отгоняющий духов».
-
Скопировать ссылку
Скопировано
Следующий материал
(Дмитрий Бобышев. Зима; Маленькi макарони)
Все книги Шеербарт П.
Главная > Автор Шеербарт П. | ||||||
| ||||||
Для правильной работы fb2Мира используйте только последние версии браузеров: Chrome, Opera или Firefox. Ваша дата определена как 21 января 2023 Технологии Правила сайта © 2008–2023 fb2Мир |
SFE: Шербарт, Пол
Запись обновлена 28 ноября 2022 г. С тегами: Автор.
(1863-1915) Немецкий писатель, также писавший как Куно Кюфер; большая часть его научной фантастики и фэнтези оставалась непереведенной до двадцать первого века. Lesabéndio: Ein Asteroiden-Roman Mit 14 Strichätzungen von Alfred Kubin auf Tafeln ( 1913 ; транс Кристина Свендсен как Lesabéndio: An Asteroid Novel 2012 ) планета, называемая далекой от нашей Утопии, планета в Паласе, расположенная далеко от нашей Утопии. ; одноименный главный герой, дальновидный архитектор, проектирует небоскреб высотой в несколько миль (см. Космический лифт), предназначенный для связи планетоида с другими частями его солнечной системы, который Лесабендио описывает в экологических терминах. Жители Паллады не похожи на Homo sapiens — пришельцы, внешний вид и поведение которых далеки от гуманоидных. Lesabéndio можно понимать как космическую научную фантастику, как важный предшественник космических историй Олафа Стэплдона.
; одноименный главный герой, дальновидный архитектор, проектирует небоскреб высотой в несколько миль (см. Космический лифт), предназначенный для связи планетоида с другими частями его солнечной системы, который Лесабендио описывает в экологических терминах. Жители Паллады не похожи на Homo sapiens — пришельцы, внешний вид и поведение которых далеки от гуманоидных. Lesabéndio можно понимать как космическую научную фантастику, как важный предшественник космических историй Олафа Стэплдона.
Das graue tuch und zehn Prozent Weiß ( 1914 ; транс Джон Стюарт как Серая ткань: Роман Пола Шеербарта о стеклянной архитектуре 2001 ), действие которого происходит более скромно в ближайшем будущем и изображает архитектора. путешествует по миру на своем дирижабле, повсюду создавая конструкции из люминесцентного стекла: концертные залы, надземные поезда (см. Транспорт), воздушные крепости для отставных пилотов. Он требует, чтобы его жена носила в основном серую одежду, чтобы не конкурировать с его многоцветной мечтой. Онейрическая беглость рассказа и стремление к экспрессионизму, которое Шербарт находит воплощением в структурах, которые он представляет для этого повествования, сильно пробуждают соблазн будущего в годы перед Первой мировой войной, в период, когда он был хорошо известен своими Модернистская защита «стеклянной архитектуры» в эссе и художественной литературе, особенно, возможно, в документальной литературе Glasarchitektur ( 1914 ). Влияние этого и других текстов проявляется в Das Passagen-Werk ( 1982 ; транс Ховард Эйланд и Кевин Маклафлин как The Arcades Project 1999 ) Уолтера Бенджамина (1892-1940). Некоторые из непереведенных работ Шеербарта упоминаются в статье о Германии. [ДК]
Онейрическая беглость рассказа и стремление к экспрессионизму, которое Шербарт находит воплощением в структурах, которые он представляет для этого повествования, сильно пробуждают соблазн будущего в годы перед Первой мировой войной, в период, когда он был хорошо известен своими Модернистская защита «стеклянной архитектуры» в эссе и художественной литературе, особенно, возможно, в документальной литературе Glasarchitektur ( 1914 ). Влияние этого и других текстов проявляется в Das Passagen-Werk ( 1982 ; транс Ховард Эйланд и Кевин Маклафлин как The Arcades Project 1999 ) Уолтера Бенджамина (1892-1940). Некоторые из непереведенных работ Шеербарта упоминаются в статье о Германии. [ДК]
Пауль Карл Вильгельм Шеербарт
родился Данциг, Пруссия [ныне Гданьск, Польша]: 8 января 1863 г.
умер Берлин: 15 октября 1915 г.
работы
- Lesabéndio: Ein Asteroiden-Roman Mit 14 Strichätzungen von Alfred Kubin auf Tafeln (Мюнхен, Германия: Георг Мюллер, 1913 ) [illus/hb/Alfred Kubin]
- Lesabéndio: An Asteroid Novel (Cambridge, Massachusetts: Wakefield Press, 2012 ) [перевод Кристины Свендсен из вышеприведенного: illus/pb/Alfred Kubin]
- Das graue tuch und zehn Prozent Weiß (Мюнхен, Германия: Georg Müller, 1914 ) [привязка неизвестна/]
- Серая ткань: Роман Пола Шербарта о стеклянной архитектуре (Кембридж, Массачусетс: MIT Press, 2001 ) [перевод Джона Стюарта из приведенного выше: illus/pb/John A Stuart]
ссылки
- Интернет-база данных спекулятивной фантастики
предыдущие версии этой записи
- Интернет-архив
Писатели, которых никто не читает • Профиль Пола Шербарта, автор Мэтью Якубовски
Гостевой пост Мэтью Якубовски.
Его рассказы доступны в Интернете в журналах 3:AM Magazine и Necessary Fiction. Рецензии на его книги чаще всего появляются в The National.
Никто не читает немецкого эрудита Пауля Шеербарта (1863-1915). Тем не менее во время его плодотворной карьеры его эксцентричная художественная литература, искусство и поэзия оказали влияние на целый ряд умов, от архитектора Бруно Таута до писателя Вальтера Беньямина. Свидетельством пророческого видения Шеербарта является то, что его художественная литература привлекла такое продолжительное внимание: он писал в основном космические романы и утопические рассказы о таких вещах, как стеклянная архитектура.
Однако помимо причудливых концепций работы Шеербарта отличаются революционным философским рвением, а образ, который возникает у него, — это образ стимпанка Ральфа Уолдо Эмерсона с силой воображения, равной силам Томаса Эдисона и Жюля Верна.
Некоторые крупные университетские издательства опубликовали несколько работ Шербарта на английском языке. MIT Press опубликовало его повесть об архитектуре из стекла « Серая ткань» и «Десять процентов белого: женский роман », а издательство University of Chicago Press опубликовало The Light Club (полное название The Light Club of Batavia: A Ladies’ Novelette ) о подпольной утопии, созданной группой богатых гуманистов. Это приятные книги, оптимистичные, ироничные и, как видно из названий, профеминистские для своего времени.
MIT Press опубликовало его повесть об архитектуре из стекла « Серая ткань» и «Десять процентов белого: женский роман », а издательство University of Chicago Press опубликовало The Light Club (полное название The Light Club of Batavia: A Ladies’ Novelette ) о подпольной утопии, созданной группой богатых гуманистов. Это приятные книги, оптимистичные, ироничные и, как видно из названий, профеминистские для своего времени.
Последний перевод Шеербарта — Lesabendio: An Asteroid Novel , и спасибо Wakefield Press (в Кембридже) за создание прекрасного иллюстрированного издания короткого романа Шеербарта о мозговитых гуманоидных червях-инопланетянах, мечтателях, которые плавают вокруг и рассмотреть их место в космосе. Используя основные приемы научной фантастики, Шеербарт создает острую социальную сатиру на европейскую салонную культуру, промышленные амбиции и групповое мышление своего времени, включая такие небрежные размышления о квантовой механике и теории струн, которые поразительно точны:0003
Лесабендио заснул.
Ему приснилась огромная солнечная система, и она представлялась ему системой из миллионов резиновых лент, которые непрерывно растягивались, а затем снова стягивались.
Мой любимый Sheerbart на английском языке до сих пор The Perpetual Motion Machine (Wakefield Press). Кажется, центральный вопрос заключается в том, что лучше для воображения — успех или неудача? Переводчик Эндрю Джорон проделал огромную работу, уловив удивительный диапазон чистых эмоций Шербарта, когда он изо всех сил пытается рассказать «Историю изобретения», как подзаголовок книги. Дневник сильного разочарования достигает бесчисленных взлетов и падений, поскольку Шеербарт пытается, терпит неудачу и снова терпит неудачу, чтобы изобрести настоящий вечный двигатель (ему и его жене нужны были деньги). «Я ничего не добьюсь со своим прототипом, — говорит он. «Это ничуть не помешало излиянию моего воображения».
(Книга также демонстрирует впечатляющие способности Шербарта как рисовальщика: она включает в себя 26 принципиальных схем прототипов настоящего вечного двигателя, которые окажутся забавными для всех, кто знаком, скажем, с гравитацией или концепцией трения.