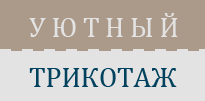Алексей Иванов «Тобол. Много званых»

Имя Алексея Иванова, писателя и сценариста, широко известно не только любителям литературы в России, но и за рубежом. Он много пишет о родной стране, ее истории, участвует в съемках художественных и документальных фильмов.
Прежде, чем стать писателем, Иванов, по специальности культуролог, кем только не работал, несмотря на то, что первая его повесть появилась в печати еще в студенческие годы довольно большим тиражом. К литературному труду Иванов вернулся с романом «Сердце пармы» в 2003 году.
Критики по-разному относятся к творчеству писателя, кто-то называет его классиком современной русской литературы, кто-то полностью не принимает его творчество. Но чего нельзя отнять у автора, так это хорошо изученный материал описанной эпохи, истории и этнографии.
Историко-приключенческий роман «Тобол. Много званых» — это первая часть дилогии под названием «Тобол». Воторой роман называется «Тобол. Мало избранных». В книге автор рассказывает о временах Петра I, который собрался изменить все в Российском государстве, в том числе и порядки, и ввести новые, европейские. И тогда народ взбунтовался, особенно в далекой и отсталой Сибири.
Краткое содержание книги «Тобол. Много званых»
Роман состоит из пролога и четырех частей:
- «Пришедшие и взявшие»
- «Луна всех варваров»
- «Вера и воля»
- «Тигры перед дракой»
В первой части рассказывается о пленных шведах, которых этапируют по Сибири. Их четверо – капитан Табберт, юнкер Ренат и солдат Цимс с женой по имени Бригитта. Идет 1711 год.
Тем временем император Петр отправляет князя Гагарина в Сибирь устанавливать новые порядки. Он назначен губернатором и едет в Тобольск. Человек он воровитый, поэтому хочет единолично властвовать в большом и богатом крае.
Между тем народ грабят все, кому не лень — и казаки, и торговцы из Бухары, договариваясь друг с другом об очереди. Деревенские люди за оброк отдают даже своих дочерей.

Гагарин разгоняет приказчиков, встречается с купцами и не разрешает им самостоятельно покупать у сибиряков пушнину беспошлинно, чем вызывает злость и обиду.
Во второй части идет речь о шведской общине, с которой Гагарин договаривается обучать русских детей грамоте. Табберт начинает изучать Сибирь и составлять ее карту.
По деревням ездит владыка Филофей с целью крещения языческого населения, но люди с недоверием относятся к приезжим.
Тем временем Гагарин договаривается с китайцами и беспошлинно продает им пушнину. Посол Китая предлагает губернатору втянуть Россию в войну между ними и Монголией, взамен он дарит драгоценные камни и получает согласие.
Торговец Касым мечтает отомстить Гагарину за отобранный источник наживы, он ищет на губернатора компромат и находит.
Третья часть начинается с 1714 года. Табберт дружит с архитектором Ремезовым и помогает ему составлять карты, но и сюда вмешивается Гагарин, приказывая дружбу разрушить. Он устравиает поджог дома архитектора.
Губернатор обещает императору, что найдет золото в Сибири. Для этого царь должен прислать солдат, на которых должны напасть китайцы. Эта провокация должна стать началом войны. Таков замысел предателя Гагарина…
Экранизация книги
В 2015 году по мотивам произведений Иванова начал сниматься сериал «Тобол», рассказывающий об эпохе Петра в Сибири. В нем восемь серий, и на экраны он вышел в 2019 году. Режиссером выступил Игорь Зайцев. В главных ролях сыграли С. Гармаш, И. Маланин, Д. Назаров, Д. Дюжев, Е. Дятлов, А. Муцениеце и др.
Сериал самому автору романа и сценария Иванову не понравился. Он посчитал, что режиссер неправильно переработал текст, поэтому из титров свою фамилию потребовал убрать.
mir-knigi.orgЧитать онлайн Тобол. Много званых
Алексей Иванов Тобол. Много званых: [роман-пеплум]
Пролог Мертвец
Пьяный Пётр промахнулся ботфортом мимо стремени и едва не упал, но удержался за луку седла. Сашка Меншиков тотчас без колебаний рухнул коленями в лужу, поднял обеими руками заляпанную грязью пудовую ногу императора и вставил носком сапога в стремя, а потом, натужно хохотнув, подсадил государя на лошадь. Лизетта, соловая кобыла, стояла смирно и лишь подрагивала хвостом – она и не такое видала. Пётр разбирал поводья. Меншиков незаметно от царя вытер ладони о шелковистый бок Лизетты.
Конечно, государь перебрал мальвазии на галере, пока вместе с Сашкой плыл от Адмиралтейства к причалу Троицкой набережной, но он всё равно бы напился – не на галере, так в Коммерц-коллегии у Апраксина. У Петра опять нестерпимо болел живот, словно дьявол сидел в брюхе и накручивал кишки на локоть. Пётр знал: эта боль заполнила бы всё тело и даже голову, а теперь хотя бы из головы её вытеснил дурной и тяжёлый хмель.
На адмиралтейские верфи Пётр ездил посмотреть, как идёт тимберовка «Леферма» – потрёпанного в боях французского фрегата, который в Лондоне приглянулся Федьке Салтыкову, и Федька его купил. «Леферм» шесть лет ходил на Балтике, потом его перегнали в Петербург. На Неве с корабля сняли все пушки и мачты, две палубы, фальшборты и обшивку выше ватерлинии, а корпус кабестанами выволокли на стапель. Деревянная туша фрегата, зияя пустотой между шпангоутов, покоилась на опорах-кильблоках под мелким ингерманландским дождём. Рядом с мокрой громадиной морского корабля Пётр чувствовал свою человеческую мелкоту. Величие корабля всегда по-юношески волновало его, даже теперь, когда терзала боль. Федосейка Скляев, адмиралтейский строитель, устроил государю визитацию «Леферма». Петру приятно было видеть упрямое муравьиное копошение работы, густо облепившее фрегат: десятники орали и размахивали руками, грузчики поднимали на талях длинные тёсаные доски, плотники приколачивали бортовины, конопатчики стучали колотушками. На царя никто не обращал внимания.
С верфи Пётр отправился в Коммерц-коллегию, где его ждал граф Апраксин. По Неве государя везла сорокавёсельная шхерная галера. С её косых латинских парусов стекала вода. На открытой корме был установлен балдахин, и Сашка Меншиков угощал Петра обедом с мальвазией и музыкой. Холодный осенний ветер гнал по реке тугую волну, балдахин хлопал и махал кистями, задранную корму галеры обдавало порывами водяной пыли. Несчастных шведов-музыкантов мутило от качки, усатый скрипач порой проскальзывал смычком по струнам, и скрипка взвизгивала. Пётр пил из кубка и смотрел на просторную мрачную Неву: галеры, шлюпки, карбасы, плашкоуты с грудами мешков, вельботы, караваны барок, идущие с Ладоги, голландские шнявы, два новых фрегата с вьющимися на ветру флагами, длинные вереницы плотов с домиками плотогонов… С грузного прама, пришвартованного у Петропавловской крепости, бабахнули три пушки: может, учения, а может, увидели на галере брейд- вымпел императора.
На дощатом пирсе Троицкой набережной Петра ожидал продрогший эскорт – адъютанты, вестовые, офицеры гвардии. Растрёпанные отсыревшие плюмажи торчали, как цветное сено. Подсаженный Меншиковым, Пётр с трудом взобрался в седло и оглянулся на галеру. Усатый скрипач-швед уже метнулся к борту и свесился над водой, раскорячив ноги: его тошнило.
Императорская кавалькада двинулась к зданию Коллегий.
– Сашка, поди поближе, – окликнул Пётр.
Меншиков сразу же подъехал, широко улыбаясь, словно ждал похвалы. Копыта лошадей чавкали по слякоти.
– Почто у тебя музыканты – шведы? – устало спросил Пётр. – Я же приказал: как заключим мир с королём Фредриком – всем пленным воля.
– У меня не шведы, государь, – тотчас отпёрся Сашка. – Я сих молодцев у Покровского монастыря в Пскове откупил.
– Думаешь, я русскую рожу от шведской не отличу?
– Не отличишь, государь, – убеждённо сказал Меншиков.
Пётр вытащил из-за отворота рукава исписанную бумагу, скомкал её и швырнул Сашке в плутовскую морду.
– Они мне жалобу сунули, когда ты за руль встал. Плачутся, что ты у них пашпорты в свой шкатул запер и держишь их тут беззаконно.
Меншиков обиженно надулся.
– Ты сам в Сенате нам говорил не спешить шведов отпускать, ежели они мастерство знают!
– Так то про корабельщиков и оружейников сказано! – злобно рявкнул Пётр. – Не про твоих свистоплясов! Ради своей потехи ты императорским словом зад подтираешь?
– Прости, Лексеич, – виновато сказал Меншиков. Физиономия у него сразу стала несчастной. – Я думал, семеро бандуристов – велика ли беда?
Пётр только бессильно дёрнул лошадь за поводья.
Лизетта спотыкалась в грязи, и её рывки отзывались в животе Петра толчками тупой боли. Пётр уже осознал, что эта болезнь убьёт его. Не спасут ни амстердамские лекари, ни марциальные воды. Он видел немало смертей – в петле, от пыток, под топором палача, от осколков гранат, вспоровших тело. Он знал, что содержится внутри у человека, и у него внутри такие же потроха, как у всех. И он тоже умрёт, и довольно скоро, и ему было очень страшно превратиться в труп, как превращались многие знакомые ему люди. И всё же у него была надежда уцелеть, выкупить себя у бога.
Выкрутился же этот шельма – Сашка Меншиков. Три года назад Пётр хотел его судить за воровство и казнить, и Сашка от ужаса пал в перины и сам чуть не сдох. Он не притворялся, а по-настоящему захаркал кровью; его корёжило в припадках и трясло от лихоманки. Врач сказал, что у него «феба» в груди, и пора его соборовать. Пётр у одра простил грешного друга – и Сашка вдруг исцелился. И вот он опять рядом, и пьёт, и баб портит, и ворует.
Сашку исцелил он – царь, помазанник. А его самого исцелит царство. Империя. Он достроит свою империю, и бог его помилует. Империя – это фрегат, который увезёт его из болезни. Его спасение и награда. Пётр понимал, что верить в такое – наивно, однако надо же было во что-то верить. Вот мореплаватель Магелланус уверовал, что земля круглая, и поплыл на запад в неведомый простор, отказавшись поворачивать обратно: дескать, ежели вера его истинна, он вернётся домой с другой стороны мира, а ежели вера ложна, то пропадёт чёрт знает где. И он, Пётр, тоже как Магелланус.
Троицкая площадь была полна народу. Офицеры, чиновники, солдаты, извозчики, матросы, денщики, посыльные… Разодетые иноземцы стояли на галерее аустерии под большой вывеской с портретом Петра и курили трубки. В приземистом Троицком соборе шла служба. А железный купол собора – ржавый, заметил Пётр. Говорил же он Сашке поменять железо – и что?..
По периметру площадь окружали деревянные дворцы: Сенат, Синод, таможенное казначейство, коллегии. В центре – так, чтобы из всех казённых окон было видно, – возвышалась виселица, и на ней висел растрёпанный полуистлевший мертвец. Булыжная вымостка на площади, набитая десять лет назад, уже пришла в негодность: зыбкая земля местами просела, булыжники выщербило из кладки, наводнения натащили грязь. Повсюду вольно распростёрлись размашистые бурые лужи, через которые там и сям были перекинуты корабельные трапы. В глубоких выбоинах застряли несколько карет на больших и тонких колёсах. Кавалькада Петра еле продвигалась по колдобинам.
– Сашка, ты обещал к распутице брусчатку сделать, – сказал Пётр.
– Я на то четыре барки камня в Твери заготовил, – сразу пояснил Меншиков, – а они в гагаринском канале под Волочком на мелях застряли, никаким лядом не стащить. Пришлось до водополья ждать подъёма.
– Врёшь. Ты берег у своего дворца ими укрепил. Своровал, значит.
– Да я за всякую копейку душой клянусь! – загорячился Меншиков.
Пётр не ответил. Он угрюмо разглядывал мертвеца на виселице. Голова казнённого была свёрнута набок; чернели провалы глазниц, расклёванных вороньём; зияла гнилая дыра на месте рта; из тряпья, точно коряги, торчали распухшие чёрные руки и босые ноги. Уже и не узнать в этом адском чудовище былого человека. А ведь в прежние годы Пётр очень его уважал. Думал, что может опереться на его плечо – такой не предаст. Предал.
– Хочешь рядом с ним, Сашка? – Пётр кивнул на висельника.
– Я тебя накормил, Лексеич, опохмелил, а ты меня за горло, – опять обиделся Меншиков. – Не по-царски это.
Петру безразлична была обида Сашки. Меншиков – такой же вор, как этот висельник. Вся разница – что ещё живой.
– Знаешь, Сашка, чего желаю успеть, покуда меня бог не приберёт?
– Чего? – настороженно спросил Сашка.
– Тебя как его вздёрнуть. Ты же одной с ним породы. Все вы мне опаскудели. Вы хуже бородатых.
Меншиков смолчал, не ответил – слишком серьёзен был Пётр.
А Пётр думал, что он умирает, а его город засасывают чухонские хляби, а его империя нужна только ворам. Никуда его прекрасный фрегат не уплывёт из этой ижорской болотины, если его не спустить на большую воду. Пётр вспоминал «Леферм» на адмиралтейской верфи. Люди вроде Сашки Меншикова или того мертвеца на виселице – они будто кильблоки под «Лефермом». Фрегат нужно строить на кильблоках, но потом их надо убирать, вышибать из-под судна, иначе корабль не сойдёт со стапеля.
dom-knig.com
Алексей Иванов — Тобол. Много званых » Книги читать онлайн бесплатно без регистрации
В эпоху великих реформ Петра I «Россия молодая» закипела даже в дремучей Сибири. Нарождающаяся империя крушила в тайге воеводское средневековье. Народы и веры перемешались. Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры и чиновники, каторжники, инородцы, летописцы и зодчие, китайские контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, православные миссионеры и воинственные степняки джунгары – все они вместе, враждуя между собой или спасая друг друга, творили судьбу российской Азии. Эти обжигающие сюжеты Алексей Иванов сложил в роман-пеплум «Тобол». «Тобол. Много званых» – первая книга романа.
Алексей Иванов
Тобол. Много званых: [роман-пеплум]
Пролог
Мертвец
Пьяный Пётр промахнулся ботфортом мимо стремени и едва не упал, но удержался за луку седла. Сашка Меншиков тотчас без колебаний рухнул коленями в лужу, поднял обеими руками заляпанную грязью пудовую ногу императора и вставил носком сапога в стремя, а потом, натужно хохотнув, подсадил государя на лошадь. Лизетта, соловая кобыла, стояла смирно и лишь подрагивала хвостом – она и не такое видала. Пётр разбирал поводья. Меншиков незаметно от царя вытер ладони о шелковистый бок Лизетты.
Конечно, государь перебрал мальвазии на галере, пока вместе с Сашкой плыл от Адмиралтейства к причалу Троицкой набережной, но он всё равно бы напился – не на галере, так в Коммерц-коллегии у Апраксина. У Петра опять нестерпимо болел живот, словно дьявол сидел в брюхе и накручивал кишки на локоть. Пётр знал: эта боль заполнила бы всё тело и даже голову, а теперь хотя бы из головы её вытеснил дурной и тяжёлый хмель.
На адмиралтейские верфи Пётр ездил посмотреть, как идёт тимберовка «Леферма» – потрёпанного в боях французского фрегата, который в Лондоне приглянулся Федьке Салтыкову, и Федька его купил. «Леферм» шесть лет ходил на Балтике, потом его перегнали в Петербург. На Неве с корабля сняли все пушки и мачты, две палубы, фальшборты и обшивку выше ватерлинии, а корпус кабестанами выволокли на стапель. Деревянная туша фрегата, зияя пустотой между шпангоутов, покоилась на опорах-кильблоках под мелким ингерманландским дождём. Рядом с мокрой громадиной морского корабля Пётр чувствовал свою человеческую мелкоту. Величие корабля всегда по-юношески волновало его, даже теперь, когда терзала боль. Федосейка Скляев, адмиралтейский строитель, устроил государю визитацию «Леферма». Петру приятно было видеть упрямое муравьиное копошение работы, густо облепившее фрегат: десятники орали и размахивали руками, грузчики поднимали на талях длинные тёсаные доски, плотники приколачивали бортовины, конопатчики стучали колотушками. На царя никто не обращал внимания.
С верфи Пётр отправился в Коммерц-коллегию, где его ждал граф Апраксин. По Неве государя везла сорокавёсельная шхерная галера. С её косых латинских парусов стекала вода. На открытой корме был установлен балдахин, и Сашка Меншиков угощал Петра обедом с мальвазией и музыкой. Холодный осенний ветер гнал по реке тугую волну, балдахин хлопал и махал кистями, задранную корму галеры обдавало порывами водяной пыли. Несчастных шведов-музыкантов мутило от качки, усатый скрипач порой проскальзывал смычком по струнам, и скрипка взвизгивала. Пётр пил из кубка и смотрел на просторную мрачную Неву: галеры, шлюпки, карбасы, плашкоуты с грудами мешков, вельботы, караваны барок, идущие с Ладоги, голландские шнявы, два новых фрегата с вьющимися на ветру флагами, длинные вереницы плотов с домиками плотогонов… С грузного прама, пришвартованного у Петропавловской крепости, бабахнули три пушки: может, учения, а может, увидели на галере брейд- вымпел императора.
На дощатом пирсе Троицкой набережной Петра ожидал продрогший эскорт – адъютанты, вестовые, офицеры гвардии. Растрёпанные отсыревшие плюмажи торчали, как цветное сено. Подсаженный Меншиковым, Пётр с трудом взобрался в седло и оглянулся на галеру. Усатый скрипач-швед уже метнулся к борту и свесился над водой, раскорячив ноги: его тошнило.
Императорская кавалькада двинулась к зданию Коллегий.
– Сашка, поди поближе, – окликнул Пётр.
Меншиков сразу же подъехал, широко улыбаясь, словно ждал похвалы. Копыта лошадей чавкали по слякоти.
– Почто у тебя музыканты – шведы? – устало спросил Пётр. – Я же приказал: как заключим мир с королём Фредриком – всем пленным воля.
– У меня не шведы, государь, – тотчас отпёрся Сашка. – Я сих молодцев у Покровского монастыря в Пскове откупил.
– Думаешь, я русскую рожу от шведской не отличу?
– Не отличишь, государь, – убеждённо сказал Меншиков.
Пётр вытащил из-за отворота рукава исписанную бумагу, скомкал её и швырнул Сашке в плутовскую морду.
– Они мне жалобу сунули, когда ты за руль встал. Плачутся, что ты у них пашпорты в свой шкатул запер и держишь их тут беззаконно.
Меншиков обиженно надулся.
– Ты сам в Сенате нам говорил не спешить шведов отпускать, ежели они мастерство знают!
– Так то про корабельщиков и оружейников сказано! – злобно рявкнул Пётр. – Не про твоих свистоплясов! Ради своей потехи ты императорским словом зад подтираешь?
– Прости, Лексеич, – виновато сказал Меншиков. Физиономия у него сразу стала несчастной. – Я думал, семеро бандуристов – велика ли беда?
Пётр только бессильно дёрнул лошадь за поводья.
Лизетта спотыкалась в грязи, и её рывки отзывались в животе Петра толчками тупой боли. Пётр уже осознал, что эта болезнь убьёт его. Не спасут ни амстердамские лекари, ни марциальные воды. Он видел немало смертей – в петле, от пыток, под топором палача, от осколков гранат, вспоровших тело. Он знал, что содержится внутри у человека, и у него внутри такие же потроха, как у всех. И он тоже умрёт, и довольно скоро, и ему было очень страшно превратиться в труп, как превращались многие знакомые ему люди. И всё же у него была надежда уцелеть, выкупить себя у бога.
Выкрутился же этот шельма – Сашка Меншиков. Три года назад Пётр хотел его судить за воровство и казнить, и Сашка от ужаса пал в перины и сам чуть не сдох. Он не притворялся, а по-настоящему захаркал кровью; его корёжило в припадках и трясло от лихоманки. Врач сказал, что у него «феба» в груди, и пора его соборовать. Пётр у одра простил грешного друга – и Сашка вдруг исцелился. И вот он опять рядом, и пьёт, и баб портит, и ворует.
Сашку исцелил он – царь, помазанник. А его самого исцелит царство. Империя. Он достроит свою империю, и бог его помилует. Империя – это фрегат, который увезёт его из болезни. Его спасение и награда. Пётр понимал, что верить в такое – наивно, однако надо же было во что-то верить. Вот мореплаватель Магелланус уверовал, что земля круглая, и поплыл на запад в неведомый простор, отказавшись поворачивать обратно: дескать, ежели вера его истинна, он вернётся домой с другой стороны мира, а ежели вера ложна, то пропадёт чёрт знает где. И он, Пётр, тоже как Магелланус.
Троицкая площадь была полна народу. Офицеры, чиновники, солдаты, извозчики, матросы, денщики, посыльные… Разодетые иноземцы стояли на галерее аустерии под большой вывеской с портретом Петра и курили трубки. В приземистом Троицком соборе шла служба. А железный купол собора – ржавый, заметил Пётр. Говорил же он Сашке поменять железо – и что?..
По периметру площадь окружали деревянные дворцы: Сенат, Синод, таможенное казначейство, коллегии. В центре – так, чтобы из всех казённых окон было видно, – возвышалась виселица, и на ней висел растрёпанный полуистлевший мертвец. Булыжная вымостка на площади, набитая десять лет назад, уже пришла в негодность: зыбкая земля местами просела, булыжники выщербило из кладки, наводнения натащили грязь. Повсюду вольно распростёрлись размашистые бурые лужи, через которые там и сям были перекинуты корабельные трапы. В глубоких выбоинах застряли несколько карет на больших и тонких колёсах. Кавалькада Петра еле продвигалась по колдобинам.
Ознакомительная версия. Доступно 32 страниц из 163
nice-books.ru
Писатель Алексей Иванов: «Я думаю, Дмитрий Дюжев
А накануне ее вручения из печати вышла первая часть исторического романа писателя «Тобол» — о Сибири петровских времен.
Еще шесть лет назад в интервью автору этих строк Алексей обнаруживал вдохновенный интерес к Петровской эпохе. И теперь это сформировалось у него в два текста — сценарий для многосерийного фильма и двухтомный роман. Первая книга — «Тобол. Много званых» — вышла из печати на днях, вторая — «Тобол. Мало избранных» — появится на прилавках осенью следующего года. В промежутке — весной — начнутся съемки картины.
Только что Алексей Иванов побывал в Москве на книжной ярмарке Non/fiction, где представил новый роман читателям, и уделил внимание нашему корреспонденту.
«Я ОБНАРУЖИЛ, ЧТО МАЛО ЗНАЮ О XVIII ВЕКЕ»
— В аннотации «Тобол. Много званых» означен как роман-пеплум. Что это за жанр такой? Логичнее было бы назвать это эпопеей. Вы против традиционного жанрового определения?
— Пеплум — это жанр киношный, большой фильм с множеством действующих лиц, масштабными историческими событиями и батальными сценами и т. д. Так как я пишу роман по собственному сценарию сериала и это действительно многофигурное и во многом батальное произведение, то его вполне правомерно так называть.
— Раньше вы в основном обращались к страницам истории, неведомым широкому кругу читателей. Вогульский князь Асыка, герой «Сердца пармы» — не сказать чтобы «поп-звезда». А царь Петр — первый эшелон…
— Да, роман «Сердце пармы» о XV веке, это время более отдаленное, поэтому и письменных источников сохранилось гораздо меньше. А XVIII век и Тобол — столица Сибири – по времени намного ближе к читателю… Но когда я начал работать над этой темой, я обнаружил, что не знаю почти ничего. Думаю, и для читателей эта эпоха в истории Сибири тоже будет полна открытий. Например, взаимоотношения России с Китаем, китайские караваны, китайские посольства – для нас это все такая терра инкогнита. Как и крещение Сибири, миссионерские экспедиции. А кто знает о том, кто такие бухарцы или где находится степная страна Джунгария и почему она воевала с Россией…
То, что я читал о Сибири в детстве и юности, всегда удивляло меня своей монохромностью. Будто там были только воеводы, дьяки и подневольные крестьяне. Ну где-то на периферии мелькают несчастные инородцы, с которых сдирают пушной налог. Но когда я вник в эту историю, я обнаружил огромное количество народов и культур, смешавшихся на одном участке пространства и времени. И рассказывать об этом очень увлекательно. Это яркая полиэтническая и поликультурная тема, и открыть ее для широкой аудитории — огромная удача для писателя.
«ПЕТР СТРОИЛ ПОЛИЦЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО — И МЫ ДО СИХ ПОР В НЕМ ЖИВЕМ»
— Кстати, о связи времен. В прошлый раз мы с вами говорили, как Петр Первый не допустил к власти «олигархов»: тогдашним бизнесменам в Сибири давали в собственность только завод, а рабочие-крепостные оставались государственными. То есть в полное владение хозяева свой бизнес не получали. Сейчас мы живем в мире госкорпораций, 70% крупного бизнеса принадлежит государству, но мы не стали жить лучше. Что теперь делать? У Петра что-нибудь есть еще интересное?
— Такие вопросы, наверное, надо задавать политикам, общественным деятелям, экономистам, а не писателям. Петр перестраивал воеводскую Русь в формат современной европейской державы, и он строил полицейское государство. И мы до сих пор живем в полицейском государстве. С большими или меньшими послаблениями и свободами. Но система эта была задана еще петровскими реформами и петровскими координатами. И то, что происходило во времена Петра, в том или ином виде повторяется и в наши дни. Потому что характер государства с тех пор не изменился. Я не знаю, что делать, чтобы жить лучше, наверное, надо двигаться в сторону демократии, в том числе и экономической.
— Напомните, что такое воеводская Русь?
— Воеводское государство строилось по принципу, что каждый мелкий чиновник обирает любого, кого сможет, на столько, на сколько сможет. И отвечает за это перед царем. А царь высоко и далеко, поэтому чиновник остается практически безнаказанным. Но при Петре выстраивается уже система бюрократического государства, а в бюрократическом государстве такое лихоимство и казнокрадство обретает определенную институциональность. То есть оно превращается в мафию, в коррупцию. И каждый чиновник, разумеется, обирает того, кого может обобрать, но и отстегивает деньги вышестоящему начальнику. И это уже совсем другая система, выстроенная иерархически. И этим она отличается от воеводской Руси.
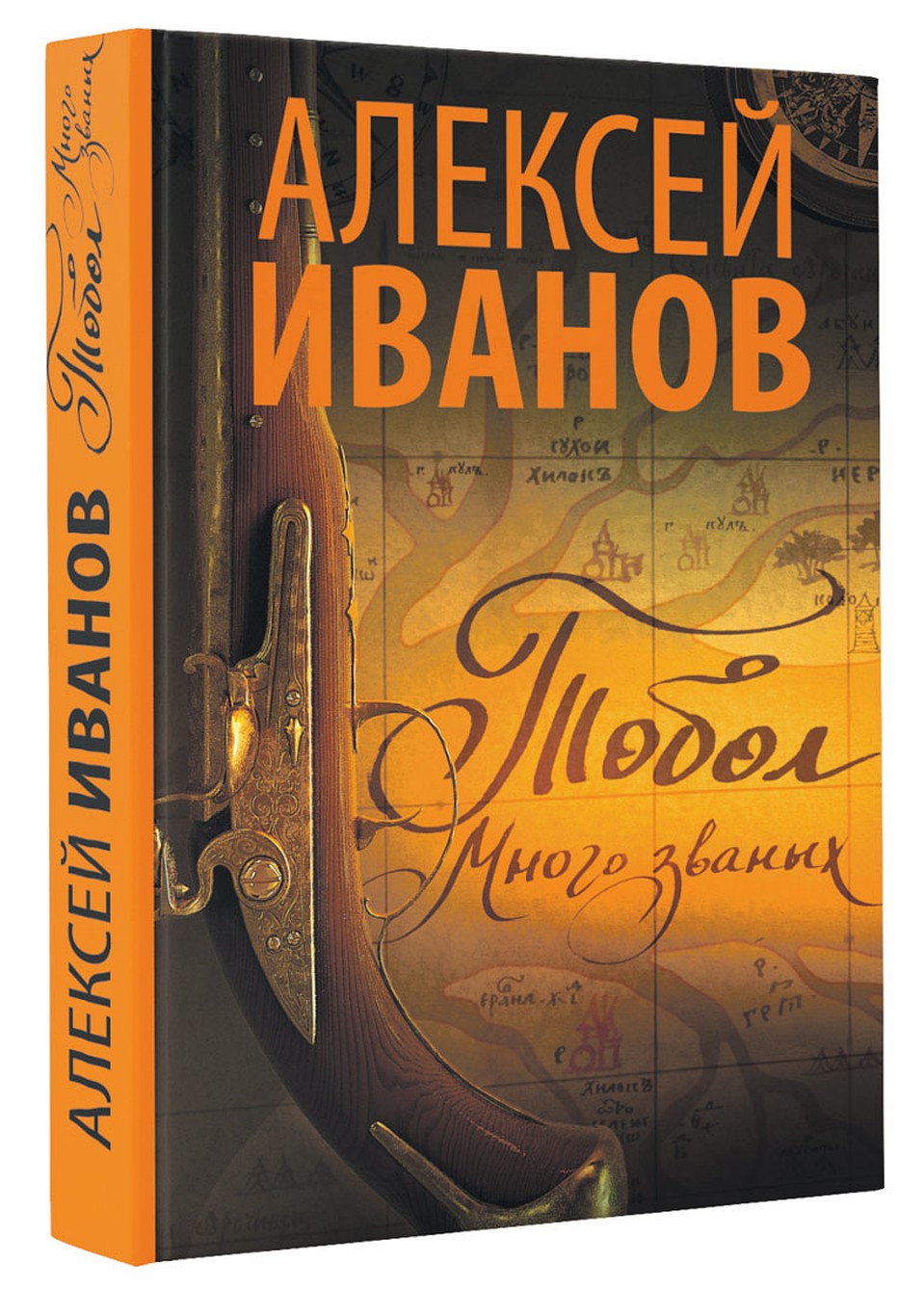
Накануне вышла первая часть исторического романа писателя «Тобол».
«СТАРАЮСЬ НЕ ДАВАТЬ ОЦЕНОК»
— Вы в романе никому не даете оценок, хотя про коррупцию там у вас немало…
— Я стараюсь не давать оценок. Тут дело не в каком-то моем личном релятивизме. В культуре постмодерна меняется статус этики. Если раньше русская литература славилась тем, что она всегда несет в себе мощный моральный урок, то теперь этика становится чем-то вроде развлечения. Новости — это развлечение, точно так же и этика сейчас в статусе развлечения. Невзирая на это, ни читатели, ни автор все равно не теряют понятия о добре и зле.
— Какие места силы в России еще будоражат писательское воображение?
— С бухты-барахты мне сложно назвать такие места, надо подумать. Но я могу назвать сразу Смоленск, Владивосток, Архангельск, Мангазея. Среднеазиатские города, которые полурусские-полуазиатские. Например, город Гурьев, который ныне превратился в Атырау. Это тоже место встречи двух цивилизаций, и не только русской и казахской.
— Вы принимали какое-то участие в работе над сериалом «Тобол», кроме сценария? Вам нравятся актеры? Например, Петра Первого играет Дмитрий Дюжев…
— Я написал сценарий, это пока главное, что сделано в работе над сериалом, потому что съемки еще не начались, утверждены даже не все главные роли. А выбор Дмитрия Дюжева мне очень понравился. Я посмотрел пробы, Дюжев — это вылитый Петр. Он и внешне похож и, самое главное, внутренне, с этим нервом, с этой петровской сумасшедшинкой… Думаю, он замечательно его сыграет. Еще для фильма я нарисовал дом Ремезова, так как подлинных рисунков не сохранилось, а я когда-то специализировался на деревянном зодчестве. Мне сказали, что мой рисунок взяли за основу для строительства в Тобольске музея Ремезова, который будет задействован в съемках, а потом останется городу.
www.kp.ru
Алексей Иванов — Тобол. Много званых » MYBRARY: Электронная библиотека деловой и учебной литературы. Читаем онлайн.
В эпоху великих реформ Петра I «Россия молодая» закипела даже в дремучей Сибири. Нарождающаяся империя крушила в тайге воеводское средневековье. Народы и веры перемешались. Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры и чиновники, каторжники, инородцы, летописцы и зодчие, китайские контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, православные миссионеры и воинственные степняки джунгары – все они вместе, враждуя между собой или спасая друг друга, творили судьбу российской Азии. Эти обжигающие сюжеты Алексей Иванов сложил в роман-пеплум «Тобол». «Тобол. Много званых» – первая книга романа.
Алексей Иванов
Тобол. Много званых: [роман-пеплум]
Пролог
Мертвец
Пьяный Пётр промахнулся ботфортом мимо стремени и едва не упал, но удержался за луку седла. Сашка Меншиков тотчас без колебаний рухнул коленями в лужу, поднял обеими руками заляпанную грязью пудовую ногу императора и вставил носком сапога в стремя, а потом, натужно хохотнув, подсадил государя на лошадь. Лизетта, соловая кобыла, стояла смирно и лишь подрагивала хвостом – она и не такое видала. Пётр разбирал поводья. Меншиков незаметно от царя вытер ладони о шелковистый бок Лизетты.
Конечно, государь перебрал мальвазии на галере, пока вместе с Сашкой плыл от Адмиралтейства к причалу Троицкой набережной, но он всё равно бы напился – не на галере, так в Коммерц-коллегии у Апраксина. У Петра опять нестерпимо болел живот, словно дьявол сидел в брюхе и накручивал кишки на локоть. Пётр знал: эта боль заполнила бы всё тело и даже голову, а теперь хотя бы из головы её вытеснил дурной и тяжёлый хмель.
На адмиралтейские верфи Пётр ездил посмотреть, как идёт тимберовка «Леферма» – потрёпанного в боях французского фрегата, который в Лондоне приглянулся Федьке Салтыкову, и Федька его купил. «Леферм» шесть лет ходил на Балтике, потом его перегнали в Петербург. На Неве с корабля сняли все пушки и мачты, две палубы, фальшборты и обшивку выше ватерлинии, а корпус кабестанами выволокли на стапель. Деревянная туша фрегата, зияя пустотой между шпангоутов, покоилась на опорах-кильблоках под мелким ингерманландским дождём. Рядом с мокрой громадиной морского корабля Пётр чувствовал свою человеческую мелкоту. Величие корабля всегда по-юношески волновало его, даже теперь, когда терзала боль. Федосейка Скляев, адмиралтейский строитель, устроил государю визитацию «Леферма». Петру приятно было видеть упрямое муравьиное копошение работы, густо облепившее фрегат: десятники орали и размахивали руками, грузчики поднимали на талях длинные тёсаные доски, плотники приколачивали бортовины, конопатчики стучали колотушками. На царя никто не обращал внимания.
С верфи Пётр отправился в Коммерц-коллегию, где его ждал граф Апраксин. По Неве государя везла сорокавёсельная шхерная галера. С её косых латинских парусов стекала вода. На открытой корме был установлен балдахин, и Сашка Меншиков угощал Петра обедом с мальвазией и музыкой. Холодный осенний ветер гнал по реке тугую волну, балдахин хлопал и махал кистями, задранную корму галеры обдавало порывами водяной пыли. Несчастных шведов-музыкантов мутило от качки, усатый скрипач порой проскальзывал смычком по струнам, и скрипка взвизгивала. Пётр пил из кубка и смотрел на просторную мрачную Неву: галеры, шлюпки, карбасы, плашкоуты с грудами мешков, вельботы, караваны барок, идущие с Ладоги, голландские шнявы, два новых фрегата с вьющимися на ветру флагами, длинные вереницы плотов с домиками плотогонов… С грузного прама, пришвартованного у Петропавловской крепости, бабахнули три пушки: может, учения, а может, увидели на галере брейд- вымпел императора.
На дощатом пирсе Троицкой набережной Петра ожидал продрогший эскорт – адъютанты, вестовые, офицеры гвардии. Растрёпанные отсыревшие плюмажи торчали, как цветное сено. Подсаженный Меншиковым, Пётр с трудом взобрался в седло и оглянулся на галеру. Усатый скрипач-швед уже метнулся к борту и свесился над водой, раскорячив ноги: его тошнило.
Императорская кавалькада двинулась к зданию Коллегий.
– Сашка, поди поближе, – окликнул Пётр.
Меншиков сразу же подъехал, широко улыбаясь, словно ждал похвалы. Копыта лошадей чавкали по слякоти.
– Почто у тебя музыканты – шведы? – устало спросил Пётр. – Я же приказал: как заключим мир с королём Фредриком – всем пленным воля.
– У меня не шведы, государь, – тотчас отпёрся Сашка. – Я сих молодцев у Покровского монастыря в Пскове откупил.
– Думаешь, я русскую рожу от шведской не отличу?
– Не отличишь, государь, – убеждённо сказал Меншиков.
Пётр вытащил из-за отворота рукава исписанную бумагу, скомкал её и швырнул Сашке в плутовскую морду.
– Они мне жалобу сунули, когда ты за руль встал. Плачутся, что ты у них пашпорты в свой шкатул запер и держишь их тут беззаконно.
Меншиков обиженно надулся.
– Ты сам в Сенате нам говорил не спешить шведов отпускать, ежели они мастерство знают!
– Так то про корабельщиков и оружейников сказано! – злобно рявкнул Пётр. – Не про твоих свистоплясов! Ради своей потехи ты императорским словом зад подтираешь?
– Прости, Лексеич, – виновато сказал Меншиков. Физиономия у него сразу стала несчастной. – Я думал, семеро бандуристов – велика ли беда?
Пётр только бессильно дёрнул лошадь за поводья.
Лизетта спотыкалась в грязи, и её рывки отзывались в животе Петра толчками тупой боли. Пётр уже осознал, что эта болезнь убьёт его. Не спасут ни амстердамские лекари, ни марциальные воды. Он видел немало смертей – в петле, от пыток, под топором палача, от осколков гранат, вспоровших тело. Он знал, что содержится внутри у человека, и у него внутри такие же потроха, как у всех. И он тоже умрёт, и довольно скоро, и ему было очень страшно превратиться в труп, как превращались многие знакомые ему люди. И всё же у него была надежда уцелеть, выкупить себя у бога.
Выкрутился же этот шельма – Сашка Меншиков. Три года назад Пётр хотел его судить за воровство и казнить, и Сашка от ужаса пал в перины и сам чуть не сдох. Он не притворялся, а по-настоящему захаркал кровью; его корёжило в припадках и трясло от лихоманки. Врач сказал, что у него «феба» в груди, и пора его соборовать. Пётр у одра простил грешного друга – и Сашка вдруг исцелился. И вот он опять рядом, и пьёт, и баб портит, и ворует.
Сашку исцелил он – царь, помазанник. А его самого исцелит царство. Империя. Он достроит свою империю, и бог его помилует. Империя – это фрегат, который увезёт его из болезни. Его спасение и награда. Пётр понимал, что верить в такое – наивно, однако надо же было во что-то верить. Вот мореплаватель Магелланус уверовал, что земля круглая, и поплыл на запад в неведомый простор, отказавшись поворачивать обратно: дескать, ежели вера его истинна, он вернётся домой с другой стороны мира, а ежели вера ложна, то пропадёт чёрт знает где. И он, Пётр, тоже как Магелланус.
Троицкая площадь была полна народу. Офицеры, чиновники, солдаты, извозчики, матросы, денщики, посыльные… Разодетые иноземцы стояли на галерее аустерии под большой вывеской с портретом Петра и курили трубки. В приземистом Троицком соборе шла служба. А железный купол собора – ржавый, заметил Пётр. Говорил же он Сашке поменять железо – и что?..
По периметру площадь окружали деревянные дворцы: Сенат, Синод, таможенное казначейство, коллегии. В центре – так, чтобы из всех казённых окон было видно, – возвышалась виселица, и на ней висел растрёпанный полуистлевший мертвец. Булыжная вымостка на площади, набитая десять лет назад, уже пришла в негодность: зыбкая земля местами просела, булыжники выщербило из кладки, наводнения натащили грязь. Повсюду вольно распростёрлись размашистые бурые лужи, через которые там и сям были перекинуты корабельные трапы. В глубоких выбоинах застряли несколько карет на больших и тонких колёсах. Кавалькада Петра еле продвигалась по колдобинам.
mybrary.ru
Спорная книга: Алексей Иванов, «Тобол. Много званых»
 Алексей Иванов. Тобол. Много званых
Алексей Иванов. Тобол. Много званых
М.: АСТ. Редакция Елены Шубиной, 2016
Анонимный обозреватель журнала Московского Дома Книги «Читаем вместе» в рецензии «Далеко от Москвы» рассказывает об истории создания этой книги: «Все началось с того, что с просьбой сделать сценарий к телеэкранизации о Семене Ремезове — сибирском архитекторе и историке — к известному писателю обратился генеральный продюсер фильма “Тобол” Олег Урушев. Что касается экранизации книги “Тобол”, то с начала декабря создатели ленты уже приступили к строительству масштабных исторических декораций.
“Тобол” — роман нового типа, совмещающий в себе три жанра: политический детектив в декорациях XVIII века, исторический роман и мистику. В романе много сюжетных линий, но в голове они помещаются легко и не путаются. Оторваться довольно трудно. Мы смотрим на мир не глазами Алексея Иванова (хотя и понимаем, что автор нас обманывает, и с нами все равно говорит он), мы видим мир то глазами православного героя, то шведского протестанта, то мусульманина из Бухары, то старообрядца или язычника-остяка.
<…>
Обилие персонажей и действия понравится поклонникам современного кино и телесериалов типа “Игры престолов”. По крайней мере, так роман позиционирует сам автор».
Обозреватель Андрей Митрофанов в рецензии «“Тобол. Много званых”: наш ответ Джорджу Мартину» («Амурская правда») акцентирует внимание на развлекательной составляющей романа: «Иванов не только верно оценивает, насколько непаханым может быть поле даже в наш просвещенный век, но и зазывает на него других писателей. “Вся качественная развлекаловка в основном вертится вокруг царей и императоров. А сама себе Россия скучна”, — отмечает автор, справедливо полагая, что при таком положении дел нам не видать ни собственных вестернов, ни вообще литературы, способной открыть читателю глаза на историю родной страны как Иппокрену, щедрую именно на увлекательные сюжеты, а не одни лишь темы для никем не востребованных научных статей. При этом писатель изначально не планирует идти строго по документальным указателям, добавляя в многокомпонентную жанровую рецептуру и альтернативную историю — в собственном понимании. Вероятно, найдутся желающие Иванова за это не раз и не два упрекнуть, и тем не менее в критике роман “Тобол” именуют не иначе, как отечественным эквивалентом “Игры престолов”. Посмотрим, удастся ли разжечь интерес масс до нужного уровня».
Книжный критик Галина Юзефович в рецензии «Три книги о прошлом: традиционные и странная» (сайт «Медуза») сопоставляет «Тобол» с другими классическими текстами: «Если вам сложно понять, зачем сегодня нужно писать (а главное читать) нечто настолько консервативно прямолинейное — не то “Петр Первый” Алексея Толстого, не то “Россия молодая” Юрия Германа на новый лад, вы, в общем, не одиноки. Алексей Иванов, помимо прочих своих удивительных умений, способен превращать фрагменты подлинной истории в восхитительную и безумную фантасмагорию, обладающую свойством не просто заменять правду, но даже ее превосходить. Однако на сей раз он словно специально ограничивает, искусственно зауживает свой писательский диапазон, так что тем, кто (как и я) ожидал нового “Сердца пармы” или “Золота бунта”, следует знать: нет, это вещь принципиально иная — настоящий, честный исторический роман-эпопея, без какой-либо литературной игры или второго дна. Все по правде и почти без вольностей — насколько это вообще возможно в художественной прозе. Много убедительных, ручной лепки героев, много (по правде сказать, очень много) сюжетных линий, большой полнокровный мир, как в каком-нибудь “Волчьем зале” Хилари Мантел — но и все, ни чудес, ни откровений.
Однако не спешите огорчаться. Если вам удастся преодолеть разочарование и все же занырнуть в “Тобол”, то, поверьте, выныривать не захочется. Такова уж природа ивановского дарования, что в любом — даже самом гиблом — жанре он ухитряется многократно превзойти ожидания: не просто прыгнуть выше заданной планки, но вообще выполнить какое-то совершенно иное и неожиданное упражнение. Тяжело и со скрипом проворачиваясь поначалу, густонаселенная и плотная ивановская вселенная в какой-то момент раскрутится до таких бешеных оборотов, что семьсот страниц уже не покажутся избыточными, а второй том (с подзаголовком, как нетрудно догадаться, “Мало избранных”) захочется получить — окей, не прямо завтра, но поскорее. Весной, как и анонсируют издатели, вполне подойдет».
А вот Ольга Андреева в «Истории проигравших» («Эксперт») сравнивает уральского писателя, ни много ни мало, с Александром Сергеевичем Пушкины: «Алексей Иванов в романе “Тобол” отказался от игры в историю, но и не пришел к документу. Он определяет свой жанр как пеплум, реанимируя традицию раннего кинематографа, имевшего склонность к египетской монументальности. Если в этой отсылке автора и есть ирония, то весьма лестная для кино. Жанр пеплума, изрядно дискредитированный бутафорским пафосом, в руках Иванова обнаруживает новые возможности. Он позволяет работать с масштабом и с тем, что во времена Пушкина называлось “духом времени”, то есть неким общим ценностным кодом эпохи. Сама история здесь не так уж и важна».
Книжный журналист и редактор «Питерbook`а» Василий Владимирский в рецензии «Сибирская хроника» («Санкт-Петербургские Ведомости») сравнивает «Тобол» с ранними книгами писателя: «В многофигурном и многослойном “Тоболе” Иванов показывает, что происходит, когда на место завоевателей и первопроходцев приходят люди, которые просто обживают новые земли, а если чему и противостоят, то лишь неумолимому ходу времени. Героический эпос сменяется хроникой, пафос преодоления — размеренным обустройством быта.
“Сердце Пармы” подхватывает, несет, кружит читателя, как беспокойная река Чусовая с ее отмелями, стремнинами и скалами-бойцами. “Тобол” катит свои волны величественно и неторопливо. Роман изобилует отступлениями, развернутыми экскурсами в историю Сибири, подробными описаниями городов и селений — кажется, будь у него такая возможность, автор снабдил бы книгу бессчетными архитектурными планами и многостраничными строительными сметами. Здание романа сбито по-сибирски крепко, обстоятельно, с многократным запасом прочности.
Оборотная сторона медали — неторопливость, вязкость повествования. На страницах книги происходит масса событий, больших и малых, важных и почти незаметных, но все они умещаются в две пятилетки с момента назначения Матвея Петровича Гагарина губернатором Сибири. Не исключено, что в следующем томе все перевернется с ног на голову и темп действия резко ускорится…»
Вадим Нестеров в статье «Пеплум великих побед» (сайт «Горький») пытается разобраться, насколько историчен «исторический» роман Иванова: «Реальная история и кинороман о канувших в Лету временах богов и героев — несовместимы. История, реальная история, глубоко антагонистична драматургии, у нее нет не только композиции, но и просто начала и конца. Это могучая река, которая течет невесть откуда незнамо куда и может затопить все что угодно. Любой популяризатор истории знает, что основная сложность — это убрать лишнее, выкроить из этого огромного кружева, где каждая деталь связана сотнями нитей с другими, хоть какой-то цельный кусок. Подходы историка и писателя противоположны. Первому необходимо собрать в хранилище все, что возможно. Второму же нужно вынести оттуда только то, без чего нельзя обойтись.
К сожалению, пока у Иванова — рыхлое “собранье пестрых глав”, очень плохо стыкующихся друг с другом. Остается надежда, что во втором томе он все-таки сумеет объяснить, зачем ему обязательно были нужны и пленный швед Страленберг, и владыка Филофей, и обер-комендант Бибиков, и бухарец Касим, и остяцкий князек Пантила, и одноглазый раскольник Авдоний, и сын албазинца Кузьма Чонг, и Володька Легостаев с Етигеровой улицы.
Как пелось в другой песне о Родине — “за столом никто у нас не лишний”».
Константин Мильчин в рецензии «“Тобол” Алексея Иванова как попытка понять и объяснить Россию» («ИТАР-ТАСС»), напротив, сразу выходит на глобальные обобщения: «О чем пишет Алексей Иванов? Он пытается понять и объяснить, как устроена Россия. Он открывает капот, снимает крышку, распахивает двери. Смотрите: вот царь. Он страшный и непредсказуемый, он хочет, наверное, хорошего, но его методы жестоки, он может избить, может повесить, он нетерпим к ворам, но знает, что воруют все.
<…>
У “Тобола” множество отсылок к известным и неизвестным текстам. Пролог, в котором Петр ругает Меньшикова, отсылает к “Петру I” Алексея Толстого, а момент, в котором император предчувствует свою смерть, — к “Восковой персоне” Юрия Тынянова. Иванов будто бы просит помощи у классиков, прежде чем начать основное повествование. А в первой главе он просит помощи у самого себя, только молодого — он показывает героев, идущих в Сибирь по Чусовой, — реке, которой Иванов посвятил свои ранние романы “Сердце Пармы” и “Золото бунта”.
Помогла ли просьба? Очевидного ответа нет. Иванов смог объединить под одной обложкой множество тем и героев, но в единый роман люди, кони, волки, проблемы, племена и боги пока не очень-то складываются. Слишком много всего и сразу. Но это только пока. “Тобол” — первая часть большой саги».
И, наконец, обозреватель «Литературной газеты» Сергей Казначеев в рецензии «Но мало избранных» пламенно клеймит писателя за русофобию: «Омерзительная “изящная” словесность. И в таком тоне — 700 страниц. К тому же пока — первая книга романа… Кто всё это будет читать — вот что непонятно, а тираж ведь не маленький. Причём я выбрал не самый гадкий фрагмент.
<…>
Стиль и настроение книги проникнуты безумной жестокостью, дикостью и русофобией. Речь идёт о времени правления Петра I. Конечно, тогда хватало негатива. Но было ведь и немало возвышенного, благородного, были великие дела и завоевания. Для Иванова ничего этого не существует. Историю страны он видит исключительно в мрачном свете. Это всё равно как если бы Тарковский в «Андрее Рублёве” не снял ни летуна, ни скомороха, ни дубовой ветки, дрожащей под ледяным дождём, а главное — не показал бы своего героя как художника и обошёлся без дивных красок его иконописи, которые прорезаются в концовке фильма.
<…>
В аннотации к роману сказано: “Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры и чиновники, каторжники и инородцы, летописцы и зодчие, китайские контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, православные миссионеры и воинственные степняки джунгары — все они вместе, враждуя между собой или спасая друг друга, творили судьбу российской Азии”. Эти обжигающие сюжеты Алексей Иванов сложил в роман-пеплум “Тобол”. Здесь надо внести важную поправку: не сложил, а без разбора вывалил всё на голову читателя. Но ведь любое искусство, а проза в особенности и прежде всего, требует строгого и вдумчивого отбора. Автор этим пренебрёг. И в результате информативная масса в сочетании с антигуманной направленностью приводит к прямо противоположному результату. Ознакомившись с текстом, хочется хорошенько вымыть руки с мылом, а саму книжку бросить в… Ну, вы поняли».
krupaspb.ru
Отзывы о книге Тобол. Много званых
Ну и масштабную же историю рассказал Алексей Иванов! Такую нельзя читать наскоком, только вдумчиво погружаться в атмосферу, заснеженный мир необъятной Сибири со всеми ее тайнами и жизнью.
Здесь очень много персонажей, и сначала было непросто всех запомнить и за всеми уследить, но по ходу развития сюжетов, их судьбы пересекались и сплетались в единую нить повествования. Здесь и царствование Петра Первого, со всеми его реформами, новшествами и гонениями на «старину-боярщину». Здесь и далекая, обширная Сибирь с ее богатствами. А где богатства, там и мошенничество, ворье и заговоры. Тут и инородцы со своими таинственными шаманами, идолами и капищами в противовес православию. А также раскол и самой церкви в виде преследований раскольников. Кажется, что в Тобольске, где происходят основные события книги, как в волшебном котле, смешалось все, что только возможно: люди, религии, интересы, жизни, деньги и власть. Тут можно побывать и в Петербурге при дворе, а затем оказаться в глухомани у остяков, затем – в Китае, за Великой Стеной, а затем – вновь в Тобольске.
Мне очень понравилась история семьи Ремезовых – самобытной, исконно русской, так естественно связанной с жизнью самого города. И не даром, ведь Семен Ульянович – архитектон, построивший самые значительные постройки в Тобольске. Да и сам Ульяныч человек весьма своеобразный – умен, упрям, вспыльчив и очень любопытен. Он составляет записи о Сибири, ее самых разных уголках и диковинах, а также о народах, живущих здесь, его традициях и обычаях. Он не боится спорить с губернатором Гагариным, язвить, доказывать свою правоту. Он не склоняется перед власть имущими, искренне верует, но открыт ко всему новому. В нем удивительно сочетаются традиционализм и открытость души.
Заинтересовала и история двух остячек-близняшек – Акони и Хомани, связанных одной душой на двоих, и то, как вмешательство русских в жизнь их народа изменит каждую из них. Их ждет трудная, даже жестокая жизнь, и каждая из них будет меняться под гнетом трудностей.
Страницы книги изобилую красочным рассказом об обычаях и традициях совершенно разных народов: русских, шведов, остяков, волгулов, китайцев, бухарцев. Каждого из них автор мастерски изображает, так, что перед глазами встает портрет персонажа, который запоминается, за судьбой которого следишь, и переживаешь.
Здесь есть и любовь, и предательства, и махинации, достойные отдельного упоминания (тот гениальный подкоп нельзя не упомянуть! А бегство раскольников?), и вся многогранность человеческой души, начиная от ее самых прекрасный стремлений и заканчивая всей мерзостью и подлостью мелочных желаний.
Многие упрекают автора в недостаточной правдоподобности, искажении исторических фактов. Ну, не знаю, я – не историк, и не искала той самой пресловутой достоверности, не проверяла факты, а просто наслаждалась книгой, ее атмосферой и миром Сибири. Так что, могу сказать, что мне понравилось. Так, что собираюсь прочесть и вторую часть, надеюсь, что продолжение не разочарует.
www.livelib.ru